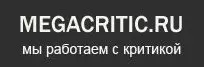Царь
зрителей
отзывов с оценкой
Описание о чём фильм
Фильм Царь - это история нравственного противостояния Ивана Грозного и митрополита Филиппа. Они были друзьями, но когда царю везде стали мерещиться предатели, а опричники залили страну кровью, митрополит не побоялся открыто выступить против царской воли и принести себя в жертву справедливости.
Трейлер
Отзывы зрителей
Оставить отзыв
Просматривая фильм Павла Лунгина, именно эти мысли и приходят в голову. Ещё приходит в голову фраза по Станиславскому: «Не верю!» То, что там показано, даже в самом идиотическом обществе не бывает, и не бывало на всём протяжении истории человечества. Это - небывальщина. Поэтому ни нравственным, ни историческим уроком не может быть в принципе. На больные фантазии ориентироваться, и тем более строить свою жизнь испугавших этих фантазий - нельзя. Теперь что же, из-за того, что кто-то Родину ненавидит до патологии, надо её не любить, историю очернять?
Конечно, на меня сейчас накинуться в защиту режиссёра, мол, он хороший дядечка, он «Остров» снял! А я отвечу скромно, без пафоса: ещё посмотрим, как в сердцах людей отзовётся фильм, где человек с иудиным грехом становиться святым…
Итак, тема - Царь...
Царей, Великих князей, самодержцев и императоров на Руси было много. Среди них фигура Ивана (IV) Васильевича Грозного выделяется особенно. Именно при нём государственное устройство стало принимать централизованный характер. До этого была феодальная раздробленность (Помните школьную программу?) Именно при нём упорядоченно законодательство, как в церковной, так и в светской жизни, при нём принят «Стоглав», при нём строились тракты, на пример Римских военных дорог…
Более 50 лет управлял сей царь державою. Это была целая эпоха со своими падениями и возвышениями, со своими победами и поражениями. Государство менялось, как менялась и сама личность самодержца. В начале правления он был юн, потом юность приобрела более зрелые формы - перешла в юношеский максимализм. Потом пошла полоса максимализма религиозного, потом терпимость, потом наступила зрелость, мудрость… Вместе с личностью государя менялся и характер правления, взаимоотношения с приближёнными.
Иван Васильевич оставил большое количество памятников литературы, интересных как для историков, так и для литераторов. Кроме переписок с властителями Европы, известны и переписки с приближёнными, опальными людьми, например с Курбским. Помните фразу: «Житие твое, пёс смердящий…» Это оттуда.
Написанное Грозным, является высотой таланта, юмора, кругозора и мудрости. Иван IV любил шахматы, был благочестив. Один только пример его смирения перед волей настоятеля храма говорит о многом. Настоятель запретил царю входить в церковь и Иван Васильевич приказал выстроить придел к храмовой стене, чтобы приходить в ненастную погоду, для слушания звуков литургии - песнопений и молитв.
При нём было выстроено на Руси огромное количество церквей. Самые известные говорят сами за себя – храм Василия Блаженного, колокольня Ивана Великого и др…
Да и ещё, - камень преткновения, для наших политиканов: по сравнению с государями Европы Грозный казнил очень мало. Есть известный пример сравнения его опалы и репрессий Елизаветы английской. Сравнивают Ивана Васильевича с ней, потому что они были современниками. Иван Васильевич Елизавету в письмах ласково называл сестрёнкой и даже какое-то время хотел посвататься к ней. Кстати, он ей подарил рецепт анисовой водки, которая до сих пор цениться в Англии.
Елизавета за 30 лет своего правления казнила по официальным данным 300 тыс. своих подданных, а Иван Грозный 30 тыс. за 50 лет, а последние 5 лет своего правления он вообще перестал казнить. Более чем в 10 раз кровожаднее была европейская владычица, по сравнению с нашим православным царём… А если принять во внимание масштабы – Англию и Россию, то можно сказать что Грозный был первым в истории гуманистом из царей.
Вот такой мудрый и благочестивый образ самодержца рисуется читателю серьёзных исторических книг. В которых историки дают оценки, опираясь на факты, документы и беспристрастные характеристики, а не на легенды и показания заинтересованных лиц, подвергшихся опале и гонениям.
А ведь подвергались этой самой опале боярские роды, которые продолжали существовать практически до самой русской революции. Да, кстати, род Романовых, прейдя к престолу, не мало сделал, для того чтобы очернить имя прославленного Рюриковича. Но это так политика… Продолжим о фильме.
То, что Павел Лунгин недолюбливает собратьев по стране, было видно из его фильмов давно. В них нет положительного персонажа, который бы ассоциировался с русским типом человека – все сплошь пьяницы, тупые таксисты, закодированные властью служаки, исполнители палачи, продажные депутаты, проститутки и др. Таков наш народ по Лунгину. И вот, вдруг, в этом паноптикуме родился светлый образ Святого русского митрополита Филиппа. И для чего спрашивается, родился этот светлый образ?
После просмотра фильма «Царь», было тоже состояние гадливости, тошноты, как и после просмотра фильма «Груз-200». Создать такое настроение фильмом о святом и самом православном, самом русском из русских царей– это надо иметь большой «талант». Ни слова о деяниях Великого государя! Только кровь, пытки, доносы и издевательства с психическими отклонениями. И вроде бы придраться не к чему - всё по «Житие митрополита Филиппа». Но ведь житие это не история. И фильм назван не экранизация жития, а именно «Царь». И фильм этот будут воспринимать как историческую правду. Воспринимать все те, кто историю в упор не знает, ни чего не читал, и не будет читать. А слышал о Грозном из современных учебников, писанных микро-лунгинами.
Если говорить конкретно о «Житие митрополита Филиппа» все исследователи как 19-20 века, так и ныне живущие учёные историки и археографы делают один вывод – «Житие митрополита Филиппа» не может быть историческим документом. Это - легенда, записанная молодым монахом Соловецского монастыря, который жил почти через 20 лет после смерти царя Ивана Грозного. Написана легенда со слов стариков, которые жили в Соловецском монастыре при святом Филиппе Колычеве, когда тот был настоятелем, а потом и при опале. Понятно, какие факты, домыслы и народные слухи они могли пересказать молодому писцу. Полная же версия жития сложилась только к середине XVII века.
Вообще историческая наука знает 170(!) вариантов этого жития. В некоторых по сюжету Иван Грозный представлен как положительный герой. И ни какого он Малюту Скуратова к святому Филиппу душить не подсылал. Но эти версии стали маргинальными, не прижившись в традиции, видимо в силу вышеперечисленных политических причин.
Иван Грозный после смерти оставил вполне нормальную сильную державу. После его смерти тихо и спокойно правил его сын Фёдор Иоаннович. Между прочим,15 лет правил, а это срок не малый! А вот после его смерти, все те боярские роды, с которыми боролся Иван IV подняли голову, и в России началась смута. Эти боярские роды и проволокли на нашу землю лжедмитриев и тушинских воров. Значит, сговор с латинянами всё-таки существовал, значит, не так был и не прав Грозный круто расправляясь с заговорщиками? Возможно, если бы он проправил ещё лет этак двадцать, мы бы сейчас не праздновали изгнания поляков с земли русской. Поляков бы просто не было. Но, увы, история сослагательных наклонений не знает. Что было - то было. Именно эти боярские роды потом писали историю царя Ивана и утверждали традицию жития…
Кстати, так для справки. Историческая наука до сих пор не может ответить на вопрос о конфликте опричных и земских людей. Нет документов. И был ли вообще этот конфликт? Многое основано на показаниях опальных иностранцев и собственных слухах типа «одна бабка сказала».
Версий о смерти Святого Филиппа Колычева наука знает четыре. Все равнозначные. Самая естественная эта та, что он просто умер своей смертью. Ведь к тому времени ему было уже 62 года. Для того времени возраст глубокого старика. Сам Грозный, кстати, дожил лишь до 51 года.
Итак, по версии имеющей такое же право на существование, как и версия об убийстве, митрополит скончался естественной смертью. Малюта Скуратов приехал на похороны почтить его память, поскольку сам царь приехать не мог. Малюта и помог братии монастыря с похоронами. О Малюте, в «миру» Григо́рии Лукьяновиче Скуратове-Бельском, хочется сказать следующее – погиб он в бою, в сабельной сече с врагом и завещал похоронить себя в монастыре прямо на тропе, где ходят монахи. Иван Грозный так и сделал, схоронив его где-то на территории Иосифо-Волоколамского монастыря. Поэтому могила «Малюты» до сих пор не найдена. Предполагают одно место на старой тропе, но любопытствующим это место не показывают. Вдруг кто-нибудь из них захочет откопать и восстановить облик русского государственника по черепу, а потом поместить его статую в кунскамеру, под названием «Злодеи России». Клеветников много на нашей территории.
Кто знает подлинные факты, подтверждённые с разных сторон и главное задокументированные, тот хоть чуть-чуть, но начнёт сомневаться в той клевете, которая окутала имена государственных деятелей России XVI века. А фактов – огромное количество. Но «лунгины» их в упор не видят, а всё твердят как заколдованные про тиранов и репрессии. Да ещё снимают фильмы, от которых остаётся вопрос, а нормален ли сам режиссёр?
То, что митрополит не был убит, совершенно не умаляет его святости. Большинство русских святых вообще ни как не отмечены на политическом фронте. Они не выступали на чьей-либо стороне, а вели тихую жизнь отшельников, молитвенников и созидателей. Святой Митрополит Филипп Колычев очень много сделал для жизнеустройства Соловецского монастыря, для прославления имени святых Зосимы и Саватия, он был кроток и трудолюбив. Эти деяния возможно и стяжали ему венец святого на небесах. А не то, что он «боролся» и «обличал»...
«Лунгины» воспользовались нашими внутренними политическими разборками, которые нашли отражение в написании жития, не преминули через эту лазейку ещё раз плюнуть в русских людей и русскую власть. Плюнули зло, смачно и не бесталанно… И ведь юридически не придёрёшься, всё по житие снял, сукин сын…
Очень обидно было смотреть в глаза ныне покойному Олегу Ивановичу Янковскому. В фильме у него был такой взгляд, что он волей не волей передавал настроение самого актёра при виде, к примеру, игры Ваньки Охлобыстина пытавшегося исполнить роль царского шута Вассиана. Вот что хочется сказать Охлобыстину: «Играть вовеки тебе отмороженных наркоманов. Ты очень бледно и глупо смотришься в противовес классичности и высоте игры великого артиста Янковского. Не надо Ваня в калашный ряд, не надо…».
И напоследок с сарказмом всем любителям Ивана Грозного и монархистам. Если вы так любите царей и русскую историю, чего же вы не снимаете про них хороших многобюджетных фильмов? Денег нет? Продайте свои дворцы и мерседесы и у вас будет денег в 10 раз больше, чем надо для съёмок. Не делаете? Значит, так любите свою историю и Родину. Значит - лицемеры вы. Приятного аппетита, смотрите фильмы снятые не вами.
Отклик на фильм взят из журнала «Деловой Подольск»
ни благодарный исторический материал, ни звездный набор актеров. Все опошлено, облевано.
Прости Господи и помилуй!
кто был историческим консультантом фильма?
Как в 35 лет царь мог так выглядеть, его явно списали с картины Репина, но ведь там события 1581 года, когда царю 51 год.
Да царь выглядел старше своих лет,но он был красив, а не беззубый уродец , как в фильме.
Жертвы опричнины очень спорны, особенно в 1565 году, когда она только начиналось и опричное войско только формировалось.
Религиозный фанатизм у царя стал проявятся значительно позже.
В фильме Грозный сумасшедший, а ведь об оценке правления царя историки спорят до сих пор(к сожалению мало документов)
\"Да немы будут уста глаголющие на праведного беззаконие!\" Это Вам, господа создатели.
Позорище новодельное.
Слава Богу, есть и те, кто не побоялся верных слов: тупо, пошло, безвкусно и абсолютно антигуманистично. По отношению не только к Царю, к народу того времени, но и к сегодняшнему зрителю. Отнять два часа жизни и спустить их в унитаз, перемешав с .омном то, что еще есть хорошего в русском человеке!
Это ж надо, с Тарковским сравнить! На полном серьезе причем - \"мне также понравилось, как \"Андрей Рублев\"\".
Посмотрите фильм Тарковского еще раз! Посмотрите, как в черно-белую жизнь Средневековой Руси, сложную, никто не спорит - черная полоса, белая, опять черная - врезаются красный и золотой цвета икон в конце фильма. Посмотрите, в конце концов, в лики тех, кого Рублев изобразил, а не в беззубую физиономию Пети Мамонова - Царя! йопть Всея Руси. С такой Царицей и с таким главным подхалимом, что даже не страшно, а смешно становится от бездарности происходящего на экране. Я в ауте. Показали на Рождество по центральному каналу! А следом за этой чернухой, когда у людей самый светлый праздник за столом, мультфильм, так сказать, \"про Федота-удальца\"! Чтобы отойти побыстрее. Сложное кино, серьезное, думать заставляет, ну вот, теперь посмейтесь чуток, отдохните! Правда, смешно? Правда, хорошо?
Писец, короче. \"Остров\" был интересен светом, но, видимо, свет этот случайно туда попал. А \"Царь\" - это гнусная попытка заставить всех поверить в то, что свет-то вот он, остался. В бегающих глазках Царя, в постно-безразличном взгляде Янковского. А вот теперь и крамольная мысль закралась: чем его взгляд здесь отличается от взгляда Волшебника из \"Обыкновенного чуда\"? Да ничем, все также в камеру прицельно смотрит, только на несколько десятков лет позже.
Блин, а про качество съемки - это вообще отдельная история. Вы смотрели \"6 кадров\" по СТС? Там есть серия эпизодов, когда древнерусский глашатай объявляет что-то толпе в обмотках. Я глазам своим сначала не поверил, когда один в один и по качеству игры, и по декорациям, и по гриму, и по наполненностью содержания (только вместо иронии пафос!) увидел то же в фильме \"Царь\".
Фильм - дрянь. Тарковский - гений. Рублев - святой. Лунгин - автор фильма \"Царь\". Больше сказать, по существу, нечего.
Иван Грозный в XVI веке был одним из немногих властителей, который был не только высочайшим интеллектуалом и образованнейшим человеком того времени, но и истинно религиозным человеком.
Он стал не только одним из важнейших созидателей российского государства, но и осуществил своеобразный переворот, вбросив в 15 век русского раннего ренессанса в российскую ментальность философский идеи, ставшие основой национального самосознания в периоды и русской реформации и русского просвещения и сохранившие влияние и в новое время.
Иван Грозный выступал за единство властного центра, необходимость жестокого наказания предателей государства, что является важным введением со времен Чингисхана, строгое сословное разделение и неучастие духовенства в управлении. Царю близки идеи Лютера. По его мнению – монашество и духовенство не должны были обладать властью, поскольку не могли ей эффективно пользоваться, а их задачей было – показать наивысший этическо-религиозный пример народу.
Полагая, что божий суд для государя еще более строг, чем для остальных, он видел задачу государя, как осуществление власти не религиозными, а мирскими методами для защиты православных христиан и улучшения их жизни. Не случаен философский интерес Ивана Грозного, высказанный им в Каноне Ангелу Грозному и обращенный к персонажу этически сложному - Архангелу Михаилу, именно как к «немилостивому» воеводе и пастырю человеческому.
Гениально высказав и осуществив проект создания русского государства он объединил, по мысли Н.С.Трубецкого, глубокую религиозную идею и строгую дисциплину и организацию властного организма по типу империи Чингисхана.
Спасает только большое письменное наследие оставленное Иваном Грозным, которое позволяет правильно оценить антирусскую трактовку Лунгина.
Теперь, кажется, в церковь не соберусь пока не пройдет это ощущение, что молитва связанна с кровью и пытками (а так же выеданием кишок, паранойей, выкалыванием глаз и т.д.)
Не понимаю словесную окрошку критиков про \"символ власти\" и \"символ веры\". Про историческую правду – не буду повторяться, здесь много всего написали.
Верю только своему ощущению от фильма - а оно мерзкое. После практики в психбольнице и то легче на душе было.
В каждой, как частенько именуют - цивилизованной стране выход подобного фильма был-бы просто невозможен, а режиссёр мог-бы подвергнуться уголовному преследованию. Только у нас прогрессирует однобокая вседозволенность, когда определённые (антигосударственные и антинародные) темы всячески культивируются и поддерживаются, а противоположная точка зрения топится на корню.
В работе Лунгина явно прослеживаются следы государственного преступления, при этом вся работа всячески поддерживается в своих начинаниях на высшем уровне.
Теперь о режиссёре. В целом после \"Острова\" относился к нему положительно, но когда он в программе у известного \"русолюба\" Познера сказал, что прочитал гигантское количество литературы о той и эпохе и после всё-таки снял ЭТО! Многие вопросы отпали сами собой...
Не хочется даже говорить об исторических и художественных изъянах картины: какой-то дьяк на крыльце крестьянской избы читающий царские указы, называя при этом дату от рождества Христова, которую только через полтораста лет царь Пётр введёт своим указом на Руси; красная ковровая дорожка к трону царя как у Понтия Пилата; кровавые оргии самого царя как дешёвая пародия на Калигулу (мало сцен разврата, девки в рубахах, бегущие в реку - это не уровень масштаба, на который замахнулись создатели фильма!) и пр.
Что в остатке? Можно спросить: зачем вы ( мы) это смотрите? А зачем вы это снимаете? А зачем потом мы это всё здесь обсуждаем?! А больше смотреть-то нечега! На фоне дешёвого сериального мыла и бесконечных стрелялок, наверное \"шедевр\", с точки зрения поднятой темы, но если поднял, то неси, а валяй в грязи и помоях! Потому что кино это не о том, когда полезней Кока-кола - с утра или на ночь, а об истории государства нашего, за которую большой кровью заплачено и совсем свежей кровью.
Сейчас, во время подъёма национального самосознания, когда правительством запрещено произносить слово \"русский\", такие вот киношки очень на руку всяческим русофобам, коих немеряно. Потому и дали Лунгину зелёный свет!
И если его \"Остров\" оставляет двойственное впечатление, то \"Царь\" - сплошь негативное. Что же у маэстро на очереди?
Дешевый наезд на историю России за большие деньги и сионистские фокусы-заказы, после случайно и опрометчиво снятого фильма Остров. Ну а что Павел Лунгин?
У В.Познера на передаче согласился принять бессмертие от дьявола. Надо оправдаться за Остров, но какой ценой?! Молитесь за Павла. Юрий.
Зато агитка просто великолепная, в стиле доктора Геббельса!
История митрополита Филиппа конечно трагична, но она так рассказана, что кроме омерзения фильм невызывает ничего.
в конце ритуальное сожжение русской церкви со всеми святыми...
торжество новой всемирно правящей касты.
стыдно за актеров, учасвующих в этом.
загляните в историю.
в интернете посмотрите.
При Иване Грозном Русь стала великой державой от Каспия до Ледовитого океана.
Иван Грозный - один из самых значимых людей нашей страны.
Какое глумление... позор...
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Седьмого января в день когда все православные христиане празднуют Светлый праздник Рождества Христова Первый канал российского телевидения решился на показ провокационного кинофильма П. Лунгина «Царь».
Данный кинофильм не только искажает историческую правду, но и роняет престиж России в глазах мирового сообщества.
Сейчас в Грузии при поддержке американских кинематографистов готовиться кино-фальсификация оправдывающая агрессию грузинского руководства против осетинского, абхазского и собственного народа и создающего из России образ государства агрессора.
Извращение российской истории авторами кинофильма «Царь» посредством создания образа кровавой бесчеловечности российских правителей будет на руку силам формирующим образ России как государства исторически способного на агрессивные действия.
Мы не можем позволить порочить честь и достоинство нашего народа, извращать историю нашей Родины и умалять заслуги наших предков, создавших великую страну.
Прошу Вас принять меры к недопущению показа кинофильма «Царь» по российскому телевидению, как искажающего историческую правду и порочащего честь и достоинство России не только в глазах мирового сообщества но и российского народа.
Адвокат /А.А. Аверьянов/
Бесславные ублюдки смотрели? Там чётко показано кто войну выиграл и кто страдал на самом деле в этой войне.. и лет через 10 в это поверит молодежь ..а русские ? а русские ГОИ ... и история наша это история язычников и варваров .... Выпуск этого фильма на киноэкраны очередной раз показывает кто стоит у истоков власти в России.
У меня вопрос. Почему русский народ в последнее время упорно унижают, внушают что и история нашего народа сплошная \"чернуха\", да и мы сами себе хозяевами быть не можем. Мы всем что-то должны, перед всеми обязаны извиняться... Усилено провоцируются межнациональные конфликты русских с теми народами, с которыми мы испокон веков были едины. Почему? про информационную войну я прочитал много информации. Фильм \"Царь\" -яркий пример этой войны. Как космополит Лунгин справился с поставленной перед ним задачей. МОЛОДЕЦ! Еще один камень в сторону разрушения русского народа, его самоопределения... Ведь задача подобных выпадок убить привязанность к национальным традициям и истории подрастающего поколения. Испокон веков наше государство было многонациональным, многоплеменным. И был мир на нашей Земле-Матушке, пока не расплодились у нас безродные провокаторы, единственной целью которых является расчленении наших племен и планомерное уничтожение....
истерики, натужное пучеглазие актеров, отсутствие сюжетной линии, ложное противостояние Царя и митрополита - все это читалось с первых минут...нельзя выдавать жалкие потуги за гениальность!!!
\"ГОРА\" РОДИЛА МЫШЬ!!!
Как всем, надеюсь понятно - фильм снят для америкосов, фашистов и русофобов. Видимо на их деньги. Хорошо, что среди моих соотечественников - есть здравые люди и их много.
Антон Николаевич - ай-ай-ай, \"оппонировать\" фактам, взятых из источников - цитатами из... Википедии. Постыдились бы хоть...
Ну, это так. Задело.
А по сути - мрачный и жестокий фильм. О чем? Да ни о чем, по-моему. О том, что \"жестокость\" - зло, а \"жестокий царь\" - плохой царь - это и так понятно. Снято хорошо, ладно, не спорю. Но то, что это якобы \"о нас\", о нашей стране - не соглашусь ни на секунду. Да и не думаю, что именно такая задумка была у режиссера (хотя кто его знает, какая у него там была задумка.. и была ли вообще?). Православие в фильме... не знаю. Правильно тут отметили, что неприятно просто смотреть два часа, как молитвы перемежаются со сценами пыток. Зачем, опять же? Показать, где хорошо, а где плохо? Так и до этого, вроде бы, с этим все всем было ясно...
Более низкосортного фильма найти сложно. Такое ощущение, что люди, причастные к этому преступлению (съёмкам этого фильма) принципиально отвернулись от доказательной базы реальности событий, а опирались лишь на слухи и стереотипы, которые укрепляют их антироссийкие взгляды. В любом другом значимом и цивилизованном государстве, Лунгин-бы уже лес валил, или метлой-бы мёл в поисках пропитания, потому-что такие антигосударственные и непрофессиональные фильмы никто-бы не дал выпустить...
Историки : против.
Патриоты : против.
Молодежь : против.
Лунгин : за.
Родня Лунгина : за.
Мамонов : за.
Родня Мамонова :за.
Прочие ушли на \"Аватар\". Им все равно.
Из истории сохранилось не так много точных летописей из правления Ивана Грозного, очевидно что в фильме много далекого от реальных событий. А к любым историческим сюжетам надо относиться очень деликатно, тем более когда речь идет о периоде большой крови.
В целом фильм не удался, и даже раз его посмотреть не стал бы советовать.
Ведь они профессионалы и работают за деньги. Высосут из пальца и не только из пальца подстрочный смысл в бреде Лунгина .
Нуждаются ли зрители в одобрении профессиональных критиков , чтобы любить например фильм \"Иван Васильевич меняет профессию\"? или \" Белое солнце пустыни\"?
Что же касается \"Царя\" , остается только сожалеть о потраченном бюджете , о том , что Янковский замарался участием в этом отстое. И еще я желаю ныне живущим и здравствующим актерам творческих удач и прозорливости, чтоб не попадаться в зловонные проекты типа \" Царь\".
Режесёру гореть в аду! ЧИТАЙТЕ ИСТОРИЮ ПРО ИОАННА ГРОЗНОГО! ИБО ФИЛЬМ \"ЦАРЬ\" -----ЛОЖЬ
В общем мне кажется; Лунгин просто не потянул такую сложную, обширную историко-социально-религиозную тему. Но сходить на фильм все-таки советую. Хотя бы на последнюю роль Янковского!
Для тех , кто интересуется историей: фильм оскорбительный. А для тех, кто историей не интересуется, честно скажу : нудятина полная. Два часа ниочем.
Всем кто любит Лунгина: смотрите Остров.
Остров смотрибельный и добрый фильм.
Сама удивлена: тот же автор , а снял не Царя а царька, к тому же бездарно. И хорошо , что бездарно. Труднее было бы детям прививать любовь к своей стране и ее истории.
этому фильму, не хватает Ивана Грозного...а впрочем Господь судья всем нам...
Понимаете, плакать должно хотеться от того, что правы оба. А не от того, что погибла блаженная девчушка. Митрополит прав. И Грозный тоже прав. Каждый из них прав своей правдой, но Грозный в итоге оказывается \"правее\". И это несправедливо, но иначе нельзя. Вот от этого должно быть больно. Эмоции - очень сильное оружие понимания мира, но не там, не так, не туда. Не про то, про что на самом деле стоит.
Да, резонанс большой у фильма именно потому, что он гиперэмоциональный. Жаль, что мимо все.
Чем не понравился? Сюжетом. Много крови, смакуются эпизоды пыток, пожирание человека медведем с выворотом кишок, отрубленная голова снилась по ночам. В этом и весь сюжет. А история рассказана быстрым текстом вначале фильма. Не смотреть детям, вплоть до 16 лет. И пожилым людям. Возможно испортить психику. Любители истории ничего из этого фильма не почерпнут. Любители садистских ужастников по достоинству оценят этот фильм.
Лунгин сидит тащится, да еще в заслугу себе ставит о том как мы тут пытаемся защитить свою историю , свое достоинство наконец.
Все актерские работы полный отстой, набор кривляк и кривляний на фоне непотребно бегающих девок. Просто кич .
Видимо актерское мастерство умерло так же как и эстрадное. Кто-нибудь будет спорить что нынешнии звездисты и звездистки не умеют петь, но кого это волнует?
Иван Васильевич, НЕИЗМЕНИВШИЙ ПРОФЕССИИ
Ps Краткость не только сестра, но и мать таланта!
Первый выход Петра Мамонова во двор в\"Царе\" шибанул дешОвым переигрышем провинциального театра, отсутствием и исторической и психологической достоверности, логики. Конечно, Грозный был параноик, свинцовых солей наемшись, но с какого такого бодуна ему свой разлад со старым митрополитом скидывать на холопов, заполнивших двор, родичей мнимых изменников? Полная ХЕРЬ! \"Не верю!\" Ни в интонацию, ни в ситуацию.
Я не ощутил этой хери первые разы: отвлекался на чай с печеньем. И с натяжкой хотел принимать господином-товарищем Лунгиным \"ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА\" Тьфу! Что далее показано в фильме суть шараханья психически неадекватного, которого и судить, стало быть, грешно, и никакие обобщения неуместны.
На 70% выдуманные Филипп, младший Колычев, Шут, Басманов, Малюта, и даже Темрюковна бесноватая, ...бнутая, – ну, все достоверны в предложенных обстоятельствах, но не Иван IV-й когда-то живший, оставивший расширенную Русь, основы Москальского государства абсолютистского типа. Бомж Ивашка-безумный вернулся в Москву из стана опричнины и стал витийствовать о великой миссии ЦАРЯ ЗЕМНОГО.
Наврали что-ли историки о деяниях реального Ивана IV-го? Нет! Либо Паша Лунгин действительно ЖМ сволочь, либо, как и Горбачёв, и Сахаров в политике, в творчестве прям, примитивен, простофилен. Теперь его фильмы буду смотреть только после того как трое компетентных человек мне рекомендуют. А воообще-то надо быть снисходительным. Бортко – тот сделал прекрасные фильмы по мистику и сатирику Булгакову, а об поэта в прозе – Гоголя расшиб нос.
Про него в писании сказано, что Манассия \"пролил весьма много неповинной крови так, что наполнил ею Иерусалим от края до края\".
Жаль, что лупатая и картавая муза молчит на этот счет...
Лунгин как вонючий навозный жук из всех свершений Ивана Великого выбрал одну лишь грязь и оставил остальное за скобками.
Фильм хрень полная.
Скажу сразу – мне фильм понравился. Прежде всего потому, что совпало моё понимание личности правители земли русской с пониманием Павла Лунгина – режиссёра фильма «Царь».
Фильм этот, как я его понял, о трагической судьбе правителя – царя Ивана Грозного, о его одиночестве и жажде любви.
По словам Петра Мамонова (исполнителя роли Ивана Грозного): «фильм «Царь» – это картина о русской святости, а не об Иване Грозном... Святость – вот наша русская национальная идея»!
При всех спорных моментах, очевидный плюс этого фильма в том, что люди в очередной раз заинтересуются собственной историей и начнут читать.
Год 1565 от Рождества Христова. Царь Иван Грозный молится, чтобы Господь послал ему знамение. «Дай знак, Господи, что слышишь меня, что не оставил меня».
По приглашению царя в Москву приезжает друг детства Филипп Колычев – настоятель Соловецкого монастыря. Царю Ивану нужно понимание и благословение в его тяжком труде, в борьбе с предателями земли русской. «Один я», – жалуется Иван.
Этот фильм о трагедии человека, принявшем на себя царский венец – ответственность за свой народ и за всё государство. Фильм о трагедии верующего царя, который хочет творить добро и любовь, а вынужден судить предателей земли русской.
Царь постоянно цитирует Евангелие, и одновременно казнит изменников.
Но мало читать молитву, чтобы быть верующим!
Вечная проблема всех правителей: можно ли быть моральным человеком, оставаясь во власти?
Митрополит Филипп олицетворяет собой жизнь по заповедям божьим. Он просит царя поступать по примеру Христа и прощать врагов своих.
– А кто истребит зло и измену, кроме меня? – вопрошает Иван. – Кто злодеев-то в узде держать будет?!
Но священник не хочет понять царя.
– Оглянись, что ты с державой своей творишь, своих людей казнишь без вины, государь! Сказано, прощайте, и вам прощено будет.
– Всех прощать? Так и погибли великие города и царства.
Возможно ли жить в миру по заповедям Божьим?
Искать мир в монастыре или строить монастырь в миру?
Чему служить: царству земному или небесному?
– Великий грех творишь, Государь, – говорит митрополит Филипп.
– Для государя грех один – когда город сдан, – отвечает Иван Грозный.
Ох, тяжела ты шапка Мономаха!
Царь предлагает Филиппу попробовать взять на себя ответственность за судьбу государства и судить изменников. Но Филипп уклоняется.
– Признаю их вину, а судить не стану.
Это только в словах легко поставить запятую «казнить нельзя помиловать».
А когда речь идёт о реальной человеческой жизни, да ещё твоего родственника…
– Государь, суди меня, – просит митрополит царя. – Не трави мне душу, вели казнить.
– А я не хочу ни судить, ни миловать. Сам суди!
И Филипп, и Иван хотят жить по заповеди христовой: «не судите, да не судимы будете». Но что делать с изменниками, которые хотят тебя убить и ввергнуть народ в войну? Любить и простить?
Митрополит может уклониться от суда, царь не может!
– Ад мы несём в себе, – объясняет Филиппу царь Иван.
И он прав, ибо Ад – это жизнь без любви!
Известно четыре фильма об Иване Грозном. Самый известный режиссера Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» (1944 год). Менее известен фильм режиссёра Геннадия Васильева «Царь Иван Грозный» (1991 год). В 2009 году ожидается премьера телесериала режиссёра Андрея Эшпая «Иван Грозный».
Фильм Павла Лунгина «Царь» о двух годах правления Ивана Грозного и его взаимоотношениях с митрополитом Московским Филиппом (Колычевым). И хотя фильм повествует именно об Иване Грозном, краткое название фильма «Царь» как бы подчёркивает, что речь идёт об архетипе – проблеме властителей всех времён и народов – о моральном оправдании власти!
Сам Павел Лунгин так охарактеризовал свой фильм: \"Фильм этот – не развлечение и не игровой блокбастер, а труд для ума и души. Петр Мамонов и Олег Янковский – на экране олицетворяющие Власть и Совесть – верят в Бога и любят Россию, не мысля себя без своего народа – но как же по-разному они это понимают! Исступленная, больная, искалеченная вера Ивана Грозного (Мамонова) бешеным ураганом налетает на спокойную, тихую, благую веру митрополита Филиппа (Янковского) – и вокруг льется кровь, вокруг на глазах зарождается та Россия, в которой мы живем и по сей день\".
Фильм снят американским оператором Томом Стерном, работавшим на всех фильмах Клинта Иствуда в последний десяток лет — от «Кровавой работы» до «Гран Торино».
Хотя фильм идёт два часа, но смотрится без напряга. Ритм фильма соответствует ритму реальной жизни, и воспринимается как вполне достоверный.
Нет никаких чрезмерных зверств и пыток. У Мэла Гибсона в фильме «Храброе сердце» и «Страсти Христовы» крови и пыток гораздо больше, также как и в фильме «Тарас Бульба» режиссёра Владимира Бортко.
И даже сцена с медведем, задирающем людей (в духе пиршеств Нерона), выглядит не бессмысленной жестокой казнью с целью шокировать зрителя, а чтобы показать силу святости Филиппа, которого медведь не трогает.
В одном из своих интервью Павел Лунгин рассказал о своей встрече с Андреем Тарковским в Париже, и на вопрос, «как же стать художником?», Андрей Тарковский ответил: «в Бога поверишь – станешь!»
Как и Тарковский в фильме «Андрей Рублёв», режиссёр Павел Лунгин поставил в центре исторических событий драму верующего человека.
Этот фильм о людях, об их трудной судьбе в трудных исторических обстоятельствах.
Даже опричники – это первая служба безопасности государства – при всей их дурной славе, показаны людьми, которым ничто человеческое не чуждо. Малюта Скуратов тоже нуждается в любви – любит своего сына калеку. Это работа у него такая – допрашивать предателей и казнить изменников.
Иван Грозный показан как человеколюбивый царь, а вовсе не как «царь зверей».
Сильно проявилась в фильме многогранность ныне священника Ивана Охлобыстина, сыгравшего бесноватого шута.
После такой роли, какой стала для Олега Янковского роль праведника митрополита Филиппа, можно смело уходить на Небеса.
Но особенно понравилась метафора с иконой – как икона становится чудотворной!
Для меня главная проблема фильма: допустимо ли для правителей ради сохранения собственной власти преступать законы моральные и человеческие, а также законы юридические (ими же самими установленные).
Мораль подчинена политике или политика должна подчиняться морали?
Надо признать, что борьба за власть часто напоминают борьбу в джунглях за источники существования. Но даже звери не жрут друг друга, как это делает человек. Ни один вид в природе не ведёт такой внутривидовой борьбы, как воюют между собой люди.
В борьбе за власть морали и совести нет места, – здесь все средства хороши.
В 1565 году Иван Грозный объявил о введении в стране Опричнины. Указ о введении Опричнины был утверждён высшими органами духовной и светской власти — Священным Собором и Боярской Думой. Однако, по другим данным, члены Собора 1566 г. резко протестовали против опричнины, подав челобитную об отмене опричнины за 300 подписей; все челобитники были немедленно посажены в тюрьму, но быстро выпущены, 50 подвергли торговой казни, нескольким урезали языки, трёх обезглавили.
Причинами введения опричнины историк В.Б.Кобрин считает проявлением конфликта двух программ централизации России: путём медленных структурных реформ или стремительно, силовым путём. Историки считают, что выбор второго пути обусловлен личным характером Ивана Грозного, не желавшего слушать людей, не согласных с его политикой. Таким образом, после 1560 года Иван становится на путь ужесточения власти, который привел его к репрессивным мерам.
При вступлении на престол Иоанн унаследовал 2,8 млн кв. км, а в результате его правления территория государства увеличилась почти вдвое — до 5.4 млн кв. км — чуть больше, чем вся остальная Европа. За то же время население выросло на 30-50% и составило 10-12 млн человек.
Однако всё, на что Иван Грозный жизнь положил – единство Руси – потомки разбазарили. То, чего боялся царь Иван, то и случилось – разодрали страну бояре. Как умер Иван Грозный, так началась эпоха смутного времени и польской интервенцией с лжедмитриями и разделом страны.
Абсолютная монархия в условиях феодальной раздробленности и междоусобной борьбы за власть являлась такой же необходимостью, как и престолонаследие.
В России всегда побеждала авторитарная власть. Иначе с таким государством было не справиться, иначе неминуем распад на удельные княжества.
Опричнина была вынужденной необходимостью!
Видимо Россия с её необъятными просторами может существовать только как единое государство с сильной авторитарной (или тоталитарной) властью.
Или будет сильная Россия, или не будет России. Это мы хорошо увидели на примере распада Советского Союза.
Сегодня вновь злободневно звучат слова польского короля Сигизмунда из второй серии фильма С.Эйзенштейна «Иван Грозный»: «Богом Господом положено Литве, Польше, Ливонии форпостом барьером Европы стоять. Варвара московского в семью просвещённых народов Запада не допускать… Сами русские в батраки годятся…».
История повторяется, потому что ничему не учит тех, кто не хочет у неё учиться.
22 марта 1568 г. Митрополит Филипп в Успенском соборе отказался благословить царя и потребовал отменить опричнину. В ответ опричники насмерть забили железными палками слуг митрополита, затем против митрополита был возбужден процесс в церковном суде. Филипп был извергнут из сана и сослан в Тверской Отрочь монастырь.
В фильме Эйзенштейна Иван Грозный говорит: «Надобно всегда царю осмотрительным быть… Благим милость и кротость. Злым же ярость и мучения. Ежели сего не имеет, не есть царь… Не дадим в обиду Русь!»
Иван Грозный считал себя человеком глубоко верующим. Будучи опричным игуменом, царь исполнял все монашеские обязанности. В полночь все вставали на полунощницу, в четыре утра – к заутрене, в восемь начиналась обедня. Царь показывал пример благочестия: сам звонил к заутрене, пел на клиросе, усердно молился, а во время общей трапезы читал вслух Священное Писание. В целом, богослужение занимало около 9 часов в день.
Есть свидетельства, что приказы о казнях и пытках отдавались нередко в церкви. Историк Г.П.Федотов считает, что «не отрицая покаянных настроений царя, нельзя не видеть, что он умел в налаженных бытовых формах совмещать зверство с церковной набожностью, оскверняя самую идею православного царства».
Не дожидаясь Божьего суда, Иван Грозный заранее вынес приговор себе сам: «Пёс смердящий, вечно в пьянстве, в блуде, скверне, убийствах, грабежах и ненависти».
В фильме Павла Лунгина царь Иван говорит:
– Может я и грешник по делам-то своим, как человек-то я и грешник, но как царь-то я праведен!
Превращение из либерального правителя в тирана закономерно и известно давно.
Английский Ричард III ничем не лучше и не хуже нашего Ивана Грозного.
Известно, как и почему был убит Юлий Цезарь. По тем же причинам, предполагают, был отравлен и Александр Македонский.
Существовали упорные слухи о насильственной смерти Грозного. Будто бы лишил жизни царя Годунов, «подкупив врача, который лечил Ивана, ибо дело было таково, что если бы он его не предупредил (не опередил), то и сам был бы казнен с многими другими знатными вельможами».
Неужели власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно?
Периодически в Интернете появляются материалы, будто бы некоторые правители устраивают взрывы против граждан своего государства ради политических целей (например, фильм «Дух времени»). Невольно возникает параллель между оправданием опричнины и действиями современных властителей по борьбе с терроризмом и наведением порядка в стране (и в мире).
«Лес рубят – щепки летят», – скажет кто-то. Вот только вряд ли кто захочет, чтобы щепкой была его голова.
Имеет ли право властитель жертвовать частью отряда ради того, чтобы спасти всё войско? И разве само войско не есть та доля народа, которая жертвует собой, чтобы выжил весь народ и сохранилось государство?
На войне и невозможно иначе: кто-то должен погибнуть, чтобы спасти остальных!
Тактика любого боя – жертвовать арьергардом ради сохранения отступающих.
Так же рассуждал и первосвященник Каиафа, когда на суде Синедриона приговаривал к смерти Иисуса из Назарета. «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». (Евангелие от Иоанна 11:49 - 50).
Дело, разумеется, не в количестве жертв, а самом праве распоряжаться чужой жизнью. Эта проблема описана и Достоевским в «Преступлении и наказании». Имел ли право Наполеон приносить в жертву великой идеи свободы, равенства, братства французской революции тысячи чужих жизней?
Можно ли жертвовать жизнью во имя идеи?
«Я убеждён, что никакое развитие страны, никакие её успехи, амбиции не могут достигаться ценой человеческого горя и потерь. Ничто не может ставиться выше ценности человеческой жизни. И репрессиям нет оправданий», — заявил Президент Д.А.Медведев.
Что важнее: единство государства или права человека?
Человек для государства или государство для человека?
В «западной модели» государство служит человеку, правам человека. В «восточной модели» государство важнее отдельной личности, которая может заменяться как испорченная шестерёнка.
Россия на 2\\3 азиатская страна – «Азиопа» – и потому у нас интересы единства государства объективно важнее интересов отдельной личности.
В этом метафизический смысл данной проблемы. Если жизнь имеет смысл, то должна быть и цель жизни. Но тогда жизнь подчинена этой цели и является лишь средством её достижения. И во имя цели можно пожертвовать жизнью.
Но если жизнь самоценна и превыше всего, то тогда желанием выжить во что бы то ни стало можно оправдать всё что угодно, любую подлость.
История древнего Рима поучительна. Авторитарные (как и тоталитарные) режимы неминуемо ведут к тирании и в последующем к своей гибели.
У власти свои закономерности. Иван Грозный, как и Сталин, не исчадье ада, а правитель, который действовал в своих исторических обстоятельствах необходимым образом. Какова радость царём быть?!
Государственная власть, наверно, как никакая другая, подчиняется необходимости, и только внешне напоминает произвол. Что бы ни говорили, а власть – это прежде всего ответственность, причём за весь народ ответственность!
Удивительно читать рецензии на этот фильм с заголовком «Царь зверей». «Иван Грозный и его верные медведи в главном русском фильме года безумствуют с особой жестокостью». «Петр Мамонов в роли Ивана Грозного предсказуемо сходит и сводит с ума».
Был ли царь Иван Васильевич безумен?
Когда я работал в НИИ комплексных социальных исследований Ленинградского университета, у нас выступал профессор исторического факультета Р.Г.Скрынников. Он рассказывал о своей новой книге об Иване Грозном, где убедительно разоблачил гипотезу американского исследователя профессора Э.Кинана из Гарвадского университета, утверждавшего, что Иван Грозный был сумасшедшим. Э.Кинан выступил с тезисом о подложности переписки Грозного и Курбского, на основании того, что будто бы не сохранилось ни одного документа, подтверждающего, что царь Иван Васильевич умел читать и писать.
Таинство русской души иноземцы склонны объяснять сумасшествием, только потому, что не в состоянии понять и объяснить странные поступки ненормальных русских. А объяснить не могут, потому что не могут принять. Поэтому и Достоевского называют сумасшедшим, и Ивана Грозного. Мы же, не ища никакой выгоды для себя, мечемся из стороны в сторону в поисках Бога, Веры, Любви.
Я против демонизации власти. Быть может, потому, что в одно время учился на юридическом факультете с нынешним президентом России.
Говорить, что у правителя нет души, значит показывать полное непонимание человеческой психологии!
Пётр Мамонов зрит в корень души Ивана Грозного: «…главное, хотел, чтобы его больше всех любили. Он ведь войско целое создал, специальное, чтобы его любили. Он даже так хотел, чтобы его любили, что иногда сам Бога забывал любить».
Всякие репрессии возникают как реакция на противоборство. По мнению историка Р.Г.Скрынникова, «Репрессии носили в целом беспорядочный характер… Побивали всех, кто осмеливался протестовать против опричнины». В подавляющем большинстве они были казнены даже без видимости суда, по доносам и оговорам под пыткой». Из 30 тысяч населения Новгорода число погибших измеряется от 4-5 тысяч (Р.Г.Скрынников) до 10-15 тысяч (В.Б.Кобрин). В Пскове царь собственноручно убил игумена Псково-Печерского монастыря Корнилия.
Интересно, как будущие историки будут оценивать антитеррористическую операцию в Чечне?
А не была ли борьба за самодержавную власть Ивана Грозного с боярской думой в тех исторических условиях вынужденной? Разве Россия тогда была готова к демократии по новгородскому образцу? Очевидно, что семибоярщина вела к распаду страны, который мы пережили в 1993 году.
К чему привела феодальная раздробленность России, хорошо известно – к трёхсотлетнему монголо-татарскому игу!
Нет, я ни в коей мере не оправдываю зверства опричников. Но как иначе мог справиться Иван Грозный с боярскими эгоистическими интересами, неминуемо ведущими к распаду страны? как иначе мог сохранить единство Руси?
Видимо, это была историческая необходимость.
О том, что действия правителя, как, впрочем, и всё в мире, подчиняется необходимости, писал ещё известный римский император-мыслитель Марк Аврелий.
Сталин в беседе с Эйзенштейном и Черкасовым по поводу фильма «Иван Грозный» 26 февраля 1947 года сказал: «Иван Грозный был очень жестоким. Показывать, что он был жестоким можно, но нужно показать, почему необходимо быть жестоким. Одна из ошибок Ивана Грозного состояла в том, что он не дорезал пять крупных феодальных семейств. Если он эти пять боярских семейств уничтожил бы, то вообще не было бы Смутного времени. А Иван Грозный кого-нибудь казнил и потом долго каялся и молился. Бог ему в этом деле мешал… Нужно было быть еще решительнее».
Известно, что Сталин изучал работу Макиавелли «Государь». Николо Макиавелли в своём известном трактате на личном опыте подметил закономерности поведения правителя.
«Государь, особенно новый, не может исполнять всё то, за что людей почитают хорошими, так как ради сохранения государства он часто бывает вынужден идти против своего слова, против милосердия, доброты и благочестия….не удаляться от добра, но при надобности не чураться и зла».
«Разумный правитель не может и не должен оставаться верным своему обещанию, если это вредит его интересам и если отпали причины, побудившие его дать обещание».
«Государь, если он желает удержать в повиновении подданных, не должен считаться с обвинениями в жестокости. Учинив несколько расправ, он проявит больше милосердия, чем те, кто по избытку его потворствуют беспорядку. Ибо от беспорядка, который порождает грабежи и убийства, страдает всё населения, тогда как от кар, налагаемых государем, страдают лишь отдельные лица».
“Не делай добра, не получишь зла” — вот истина, которую я усвоил с детских лет, и никогда в ней не обманулся. Ты никогда не убедишь меня в том, что нужно любить врагов и благословлять проклинающих нас. Как с тобой поступают, так и сам поступай; тебя обманывают, и ты обманывай. “Око за око, зуб за зуб”, — сказано в Законе.
«Людей удерживает от преступления страх мести, а отнюдь не прощение. Если хочешь, подставляй другую щеку; я же не идиот, чтобы, когда у меня отнимают рубашку, отдать и верхнюю одежду. Ты сумасшедший или дурак, а может быть, действительно не от мира сего, если полагаешь, что добром можно победить зло. Глупец! Врага нужно ненавидеть. Это ясно даже ребенку!
Народу нужны не слова, а дела. Вид смерти и запах крови убеждает больше, нежели россказни о посмертном воздаянии претерпевшим до конца муки земные. Люди более ценят сильных политиков, чем сладкоречивых проповедников.
Народ не хочет и не должен знать всей правды. Зачем простым людям это тяжкое бремя? В неведении они находят желанный покой. Пусть знают лишь те, кто несет ответственность за народ.
Людям не нужна свобода. Народу нужен порядок! А значит, и власть.
Людям нужно простое человеческое счастье. Но прежде всего свобода. А свобода завоевывается силой. Поэтому нужно прогнать из страны чуждых завоевателей и сделать царем твердого и волевого человека. Только сильный правитель может обеспечить порядок, творить добро и вершить справедливость. В том и состоит любовь к своему народу, чтобы желать ему хорошего царя.
Народу нужна власть, потому что без нее нет порядка. Мы взяли на себя груз ответственности, в котором больше проклятий, чем славы, и не можем отказаться, поскольку отвечаем за весь народ, а не только за самих себя, как обычные люди. Ты обвиняешь нас в лицемерии, но мы не можем руководствоваться простой человеческой моралью и следовать заповеди “не убий”, когда интересы народа требуют расправы над непокорными.
Это жестокая необходимость, дабы сохранить веру людей в Закон. Ты, наверно, думаешь, что больше других пострадал от власти. Нет, это я — жертва власти! Потому что не волен поступать так, как хочу. Власть — это тяжкое бремя, которое я должен нести. Всю жизнь я посвятил Богу и всегда желал только блага своему народу, ревностно исполняя обязанности и стараясь через строгое соблюдение заповедей удержать людей в повиновении». (из моего романа «Чужой странный непонятный необыкновенный чужак» на сайте Новая Русская Литература http://www.newruslit.nm.ru
Ты думаешь, я свободен? Нет, я тоже заложник, заложник власти. Когда добиваешься власти, думаешь, что используешь её во благо людей, чтобы служить добру, а потом незаметно сам начинаешь служить власти. Власть подчиняет себе людей!
Я ведь такой же человек, как все. Но всё-таки прежде из-за желания пользу своей стране принести. Цель моя — благо народа. Я хотел сделать людям как лучше, реформы провести. Но люди ленивы и не хотят ничего менять, к чему приспособились. Как можно в таких условиях проводить преобразования? Ответ один — только силой! Любые реформы — необходимость, и почти всегда они требуют принуждения. Власть — это принуждение, а принуждение — это сила.
Я потребовал чрезвычайных полномочий не честолюбия ради, а для проведения коренных преобразований. Создавая новое, неизбежно приходится ломать старые порядки, и для этого нужна сила. Сила — основа права! Законы устанавливает победитель. Но я применял силу не для того, чтобы разрушать, а чтобы исправить. Говорят, стрелять в своих безнравственно. Но на войне, как на войне. Я вынужден был принять трудное, но необходимое решение. Бунт нужно подавлять беспощадно. Правитель должен быть беспощадным! Но и справедливым! Жестокость — необходимое лекарство! Без жестокости нет ни порядка, ни дисциплины!
На самом деле, у меня не было выбора. Гибель этих людей была необходима ради сохранения целостности государства. Я не мог поступить иначе! Необходимость вынуждает меня поступать таким образом. Когда речь идет о сохранении государства, морали нет места. Ради государства любое зло есть добро. Да, гибнут люди. Но что поделать? Лес рубят — щепки летят. Что значат какие-то жертвы, когда на карту поставлена целостность государства! Цель оправдывает средства. Победителей не судят! Если одержана победа, народ забывает средства её достижения. Правителем становится тот, кто не боится переступить через мораль и совесть, кто способен на любые необходимые для государства меры!
Это только кажется, что я свободен и могу поступить, как хочу. Нет, я ещё более несвободен, чем кто-либо. Чем больше ответственности, тем больше несвободы. Я вынужден подчиняться государственной необходимости и руководствоваться требованиями политической целесообразности. Я не могу поступить иначе. Такова логика власти! Я должен делать то, что требуют от меня обстоятельства! Как человек, я могу с этим не соглашаться, но как высшее должностное лицо, не вправе поступить иначе, — интересы народа требуют!
Ты думаешь, это я управляю событиями? Нет, это они управляют мной. Всё подчиняется железной логике событий, и даже при желании невозможно ей воспротивиться. Это своего рода закон, и пытаться пренебречь им всё равно что спорить с законом всемирного тяготения. Я действую не как хочу, а в силу политической необходимости, выражая волю большинства.
В политике обиды никто никогда не забывает. Даже если на словах прощает, при удобном моменте обязательно отомстит. В политике предательство не предательство, а целесообразность или необходимость. Иначе нельзя — или ты, или тебя. Такова формула власти. Здесь ты один!
Ты не представляешь, как тяжело быть одному! Я слышу только лесть и ложь, ложь и лесть. Никто правды не скажет, никто! И лесть плоха, и правда нехороша. Поверь, я не с врагами своими воюю, а с врагами народа, с врагами государства. Они загнали меня в угол. Требуют суда, в результате которого мне грозит тюрьма. Остаётся только защищаться. Любой другой на моём месте поступил бы точно также. Да, приходилось людей на смерть посылать, но иначе было нельзя, иначе ещё больше бы крови пролилось. Я ведь не для себя старался, — для народа! А люди неблагодарны: они зло лучше понимают, чем добро, видят только плохое, судят, не думая, как тяжело мне было принимать непопулярные решения. Если бы и они искренне любили свой народ, как люблю его я, они поступили бы точно также. Спасая всех, нужно пожертвовать немногими!
Ты, может, думаешь я не испытываю угрызений совести? Испытываю. От того и сплю плохо, и здоровье ни к чёрту. Чувствую оцепенение власти. А впереди бездна! И обратного пути нет. Вокруг предатели, изменники среди ближайших друзей, постоянные угрозы заговоров. Желающих занять моё кресло хоть отбавляй. Все, все предали! Я никому не верю! Никому! Даже себе!
Мучаюсь, во многом раскаиваюсь, но сделанного не воротишь. Несчастный я человек! Народ меня не любит, проклинает. А ведь когда-то любил. Никто, никто меня не оправдает, потому что не знают, как это трудно — быть правителем! Но если не я, то кто же?!
Я не боюсь людского приговора, я боюсь приговора истории!
Много раз слышал, будто любыми путями буду держаться за власть. Это враньё! Дело в другом. Всё что я хотел, это чтобы мой народ был счастлив. Бессонные ночи, мучительные переживания, что надо сделать, чтобы людям хотя бы немного жилось легче и лучше, — нет у меня более важной задачи. Я пожертвовал собой ради счастья людей! Власть — это жертвоприношение!
Я всего себя отдал власти: все свои знания, и опыт, и здоровье. Нет времени заняться собой, о душе подумать. Меня съела власть! Я принёс себя в жертву!» (из моего романа-быль «Странник»(мистерия) на сайте Новая Русская Литература http://www.newruslit.nm.ru
Мой видеоролик с премьеры фильма «ЦАРЬ» можно посмотреть здесь:
http://www.liveinternet.ru/users/1287574/post113450301/play
ЛЮБОВЬ ТВОРИТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ!
© Николай Кофырин – Новая Русская Литература – http://www.nikolaykofyrin.narod.ru
Иное дело - фильм Лунгина \"Царь\". Режиссёр умудрился снять фильм так, что в нём нет практически ни одного реального исторического факта. Судя по набору представленных в фильме \"фактов\", Лунгин опирался на дворянского историка начала 19 века Карамзина. Тот в свою очередь использовал в своём рассказе о правлении Ивана Грозного сочинения перебежчика Андрея Курбского и \"свидетельства\" иностранцев. Однако историческая наука не стоит на месте. Введены в оборот данные русских летописей и другие источники, опубликованы труды Виппера, Бахрушина, Скрынникова, Фроянова. Источниковедческий и сравнительный анализ показывают, что большинство этих \"фактов\" просто вымышлены. Это ни что иное, как идеологическая диверсия времён Ливонской войны.
Что же качается положительной оценки личности Ивана Грозного, то она, конечно же, вызвана не \"патриархальным сознанием\" и слепой \"верой народа в сильную руку\", а осознанием реальных жизненных потребностей. В 30-е годы 16 века во время малолетства Ивана на Россию было совершено 43 крупных татарских набега - 23 казанских и 20 крымских. Каждый набег - это тысячи убитых и уведённых в рабство русских людей. Татары доходили до Вологды. Правящие олигархические группировки бояр со своими феодально-вотчинными интересами в принципе не могли обеспечить важнейшую в тех условиях потребность людей - выживание. При разгроме Казанского ханства Иваном Грозным было освобождено около 60 тысяч русских пленников. В 1571 г. крымские татары в последний раз сожгли Московский Посад. После разгрома крымского хана в 1572 г. в битве при Молодях набеги крымцев прекратились. Иван Грозный стал последним русским правителем, о котором народ слагал былины.
Многие недооценивают значение Ливонской войны. Это была борьба молодого Русского государства за свой политический, экономический, религиозный суверенитет, борьба за право на равных торговать с Европой и иметь на Балтике свой флот, борьба за то, чтобы не превратиться в колонию европейских государств. Новая формирующаяся буржуазно-капиталистическая Европа в то время уже пожирала целые цивилизации и континенты. Начал эту борьбу Иван Грозный, а закончил Пётр Первый.
Думается, что негативное отношение к Ивану Грозному во многом определяется классовой принадлежностью людей, их социально-экономическими интересами. Очевидно \"классовое родство\" таких критиков политики Ивана Грозного, как разгромленная им феодальная аристократия, европеизированное имперское дворянство и нынешняя олигархия с её обслуживающим персоналом. Эпохи разные, а мировоззрение схоже - грабить, предавать и продавать народ и страну.
Потому что это всем нравится, если вместо учебы кино показывают. А какие еще фильмы вам в школе показывали?
Или это единственный?
общее впечатление тяжело сформулировать, а долго писать бессмысленно, так как \"многа букф\".
быстренько по пунктам.
1. Спецэфекты и вообще крутиковость.
их тупо нет, или я их тупо не заметил (если только считать черно белые вставки), крутиковость там же где и эффекты (массовки не массовые, битва не боевая, ну и так далее)
2. Историческая правда
а кому оно надо? на мотоциклах стрельцы не гоняют, в макдональдце царь не трапезнечает.
3. Герои
герои идеологически выстроены так
ЦАРЬ - псих, МЕТРОПОЛИТ - добрый, вокруг сволочи конченные, либо честные почти святые люди, промежуточные варианты отсутствуют.
(привет хоббитам)
4. Есть ли польза ?
ну.... если только полистать какую нибудь литературу по теме.
P.S. Царь был не однозначный, а фильм НЕТ.
"В романе советского писателя Чингиза Айтматова "Буранный полустанок" есть образ манкурта – человека, лишенного памяти о прошлом и обращенного в раба. Но точно так же и любой народ, лишенный своей исторической памяти, превращается в коллективного "манкурта", в материал для удобрения т.н. "цивилизованных наций". Именно это пытаются проделать сегодня с русским и другими коренными народами России. В качестве орудия используется искусство, в частности – кинематограф",
"В последнее время целью фальсификаторов стал ключевой момент в отечественной истории – создание в XVI веке Московского царства и олицетворяющий этот процесс первый русский царь – Иоанн IV Грозный. Фильм П.Лунгина "Царь", широко разрекламированный всеми российскими СМИ, не только искажает историческую правду, но и роняет престиж России в глазах всего мира. Вот лишь некоторые примеры откровенной фальсификации истории, из которых целиком состоит фильм "Царь".
1. Фильм начинается со лжи – когда бегущие по экрану титры создают для зрителя "вводную", не соответствующую действительности: якобы, в 1565 году польский король Сигизмунд завоевывает русские города, в стране царит голод, опричники залили страну кровью. Как результат – поляки захватывают стратегически важный Полоцк, что приводит к ужесточению террора. На самом деле война для России шла успешно, русские заняли у поляков города в Прибалтике, а Полоцк останется во владении России еще 14 лет – до 1579 года.
2. Массовые казни. Согласно источникам, за весь период правления царя Иоанна Васильевича было казнено не более 4-5 тысяч человек. Что ни в какое сравнение не идёт с правлением, например, современника царя Иоанна IV, французского короля Карла IX, по распоряжению которого за одну Варфоломеевскую ночь католики перебили во Франции 30000 протестантов. В том же XVI веке в Англии только за бродяжничество были повешены 70000 человек. Эти цифры доказывают, что особая "кровожадность" Грозного царя – домыслы фальсификаторов.
3. Другая ложь – избиение опричниками во главе с царем митрополита Филиппа в храме и сцена посещения свергнутого митрополита государем. Никаких документальных подтверждений этих сцен, как и того, что царь Иоанн IV имел какое-то отношение к смерти митрополита Филиппа, не существует", – отмечает писатель.
"Однако создателей фильма это не волнует, – продолжает В.Манягин. – Они творят на экране кровавую фантасмагорию: безумный царь-параноик с вечно открытым ртом, из которого торчит блестящий вампирский клык, злобная истеричка-царица, кровожадные псы-опричники… Непрерывный калейдоскоп кадров, в которых мелькают виселицы, куры с отрубленными головами, кровь. Авторы фильма старательно создают образ кровавого Апокалипсиса во главе с царем-Нероном, сидящим над деревянным Колизеем, где медведь рвет на части живьем верных и праведных слуг царя. Вместе с царем наслаждается кровавым зрелищем и простой народ: вопит от восторга, машет руками, пучит глаза – вот-вот начнет делать ставки. И это не единственные в фильме кадры, где русский народ выглядит как дикое кровожадное быдло. Таким же его изобразили в сцене поставления на митрополию святителя Филиппа, когда толпа бежит ловить брошенные монеты".
"Царь Иван Грозный вызывал и вызывает ненависть врагов России по одной причине: он возвеличил ее политическую роль в мире, ее экономическое и военное могущество. При этом царе территория государства увеличилась в 2 раза – с 2,8 млн кв. км до 5,4 млн кв. км, были завоеваны царства Казанское, Астраханское, Ногайская орда, Северный Кавказ, Западная Сибирь, население увеличилось более чем на 30%, введена выборность местной администрации, создана сеть начальных школ, организовано книгопечатание, создана почтовая служба, регулярная армия, основано 155 новых городов и крепостей. Иоанн Грозный был великий государственный деятель и патриот, он заложил основы современного Российского Государства, и мы не можем позволить порочить его честь и достоинство, честь и достоинство нашего народа, извращать историю нашей Родины и умалять заслуги наших предков, создавших великую страну. Фильм "Царь" должен быть изъят из публичного проката в кинотеатрах и, наравне с порнографией, разрешен только для частного просмотра на домашних видеоустройствах", – заключает Вячеслав Манягин.
Ладно всем удачи, идите бейтесь лбом об пол в экстазе))
Всех благ.
И вовсе не исторический это фильм.
(Хотя, и персонажам, и антуражу, и костюмам,
и словам - верю!)
Это глубокое, пронзительное размышление об отношениях власти с народом. Увы, прихожу к выводу, что за столько веков, за исключением некоторой косметики и
внешних атрибутов, ничего-то у нас не изменилось.
За исключением, пожалуй, того, что ещё полвека назад авторов фильма (дай им Бог здоровья!)
поставили бы к стене.
Но сперва напомню людям, что Вы там понаписали про показанную в фильме эпоху:
“… Клеветники - процветают. А идеи могут быть разные, к примеру, монархическая идея, или идея построения православного царства, да множество всего… и не перечислишь…
Просматривая фильм Павла Лунгина, именно эти мысли и приходят в голову. Ещё приходит в голову фраза по Станиславскому: «Не верю!». То, что там показано, даже в самом идиотическом обществе не бывает, и не бывало на всём протяжении истории человечества. Это - небывальщина.
… Царей, Великих князей, самодержцев и императоров на Руси было много. Среди них фигура Ивана (IV) Васильевича Грозного выделяется особенно. Именно при нём государственное устройство стало принимать централизованный характер. До этого была феодальная раздробленность (Помните школьную программу?) Именно при нём упорядоченно законодательство, как в церковной, так и в светской жизни, при нём принят «Стоглав», при нём строились тракты, на пример Римских военных дорог…
Иван Васильевич оставил большое количество памятников литературы, интересных как для историков, так и для литераторов. Кроме переписок с властителями Европы, известны и переписки с приближёнными, опальными людьми, например с Курбским. Помните фразу: «Житие твое, пёс смердящий…» Это оттуда.
Написанное Грозным, является высотой таланта, юмора, кругозора и мудрости. Иван IV любил шахматы, был благочестив…
При нём было выстроено на Руси огромное количество церквей. Самые известные говорят сами за себя – храм Василия Блаженного, колокольня Ивана Великого и др…
Да и ещё, - камень преткновения, для наших политиканов: по сравнению с государями Европы Грозный казнил очень мало….
Вот такой мудрый и благочестивый образ самодержца рисуется читателю серьёзных исторических книг.
ОТЛИЧНО, ПРОСТО ЗДОРОВО!
Теперь же обратимся к энциклопедии “Википедия”, в которой цитируются сведения из трудов историков Государства Российского:
ВИКИПЕДИЯ. СТАТЬЯ “ОПРИЧНИНА” (ИЗБРАННЫЕ ЦИТАТЫ):
“ПОХОД ПРОТИВ НОВГОРОДА.
В декабре 1570 г., подозревая новгородскую торговую знать в подготовке перехода города на сторону Речи Посполитой, Иоанн, в сопровождении дружины опричников, стрельцов и других ратных людей, выступил против Новгорода. В начале января войска подошли к Новгороду и, по описаниям небеспристрастных новгородских летописцев, опричники начали свою расправу с жителями: людей забивали до смерти палками, бросали в Волхов, ставили на правёж, чтобы принудить их к отдаче всего своего имущества, жарили в раскаленной муке. Новгородский летописец рассказывает, что были дни, когда число убитых достигало полутора тысяч; дни, в которые избивалось 500 − 600 человек, считались счастливыми. Шестую неделю царь провёл в разъездах с опричниками для грабежа имущества; были разграблены монастыри, сожжены скирды хлеба, избит скот. Военные отряды посылались даже в глубину страны, верст за 200—300 от Новгорода, и там производили подобное же опустошение.
Р. И. Скрынников, подсчитав число жертв, упомянутое в «Синодике» Ивана Грозного, вывел цифру 2170—2180 человек; однако уточняет, что донесения могли быть не полны, многие действовали «независимо от распоряжений Скуратова» и допускает цифру три-четыре тысячи человек. В. Б. Кобрин считает эту цифру крайне заниженной, отмечая, что она исходит из предпосылки, что Скуратов был единственным или по крайней мере главным распорядителем убийств. Согласно новгородской летописи, во вскрытой могиле погибших обнаружили 10 тысяч человек. Кобрин сомневается, что это было единственное место погребения убитых, однако считает цифру в 10-15 тысяч наиболее близкой к истине. Общее население Новгорода тогда не превышало 30 тысяч.
Из Новгорода Грозный отправился к Пскову. Первоначально ему он готовил ту же участь, но царь ограничился только казнью нескольких псковичей и грабежом их имущества. В то время Грозный гостил у одного псковского юродивого (некоего Николы Салоса). Когда пришло время обеда, Салос протянул Грозному кусок сырого мяса со словами: \"На, съешь, ты же питаешься мясом человеческим\", а после - грозил Иоану многими бедами, если тот не пощадит жителей. Грозный, ослушавшись, приказал снять колокола с одного псковского монастыря. В тот же час издох его лучший конь, что произвело весьма сильное впечатление на Иоанна. Царь поспешно покинул Псков и вернулся в Москву, где снова начались розыски и казни: искали сообщников новгородской измены. Были обвинены даже любимцы царя, опричники Басмановы - отец с сыном, князь Афанасий Вяземский, печатник Висковатый, казначей Фуников и др. Вместе с ними в конце июля 1570 г. было казнено в Москве до 200 человек: думный дьяк читал имена осужденных, палачи-опричники кололи, рубили, вешали, обливали осужденных кипятком. Сам царь принимал участие в казнях, а толпы опричников стояли кругом и приветствовали казни криками «гойда, гойда». Преследованию подвергались жены, дети казненных, даже их домочадцы; имение их отбиралось на государя. Казни не раз возобновлялись, и впоследствии погибли: князь Пётр Серебряный, думный дьяк Захарий Очин-Плещеев, Иван Воронцов и др., причём царь придумывал особые способы мучений: раскаленные сковороды, печи, клещи, тонкие веревки, перетирающие тело, и т. п. Боярина Козаринова-Голохватова, принявшего схиму, чтобы избежать казни, он велел взорвать на бочке пороха, на том основании, что схимники — ангелы, а потому должны лететь на небо.
ПОСЛЕДСТВИЯ ОПРИЧНИНЫ.
Последствия опричнины многообразны. Как отмечает В. Кобрин, «писцовые книги, составленные в первые десятилетия после опричнины, создают впечатление, что страна испытала опустошительное вражеское нашествие». До 90 % земли лежало «в пустее». Многие помещики разорились настолько, что бросили свои поместья, откуда разбежались все крестьяне, и «волочились меж двор». Книги полны записями такого рода: «…опритчиные на правежи замучили, дети з голоду примерли», «опритчина живот пограбели, а скотину засекли, а сам умер, дети безвесно збежали», «опричиныи замучили, живот пограбели, дом сожгли». В Двинской земле, где собирал подати опричник Барсега Леонтьев, целые волости запустели по выражению официального документа «„от гладу, и от мору, и от Басаргина правежу“. В духовной грамоте 90-х гг. автор отмечает, что его село и деревню в Рузском уезде „опришницы розвозили, и та земля стояла в пусте лет з двацеть“. Экономические и демографические результаты опричнины резюмировал псковский летописец, записавший: „Царь учиниша опричнину… И от того бысть запустение велие Руской земли“».
Непосредственным результатом запустения был «глад и мор», так как разгром подрывал основы шаткого хозяйства даже уцелевших, лишал его ресурсов. Бегство крестьян, в свою очередь, привело к необходимости насильно удерживать их на местах — отсюда введение «заповедных лет», плавно переросшее в учреждение крепостного права. В плане идеологическом опричнина привела к падению морального авторитета и легитимности царской власти; из защитника и законодателя царь и олицетворяемое им государство превратились в грабителя и насильника. Выстраиваемая десятилетиями система государственного управления сменилась примитивной военной диктатурой. Попрание Иваном Грозным православных норм и ценностей и репрессии в отношении Церкви лишили смысла самопринятый догмат «Москва — третий Рим» и привели к ослаблению нравственных ориентиров в обществе. Как считает ряд историков, события, связанные с опричниной, явились непосредственной причиной системного общественно-политического кризиса, охватившего Россию через 20 лет после смерти Грозного и известного под именем «Смутного времени».
В плане военном, опричнина показала свою полную неэффективность, проявившуюся во время нашествия Девлет-Гирея и признанную самим царем.
В плане политическом, опричнина утвердила неограниченную власть царя — самодержавие. Это последствие, наряду с крепостным правом, оказалось наиболее долгосрочным.”
ЧИТАТЕЛЬ, ВЫВОДЫ СДЕЛАЙ САМ.
Про фильм Павла Лунгина можно сказать, что он далеко не “дословно исторический”. Да, Ивану Грозному было в те годы 35 лет, никак не 50, но… так ли это важно?!
Если есть у человека душа, не совсем заплывшая жиром, и если человек этот сквозь слой своего “интеллектуализма” – выученных знаний, сложившихся мнений, гордыни за себя умного да “правильного” да велеречивого – если способен человек сквозь это все узреть голос истины… да хотя бы вспомнить простое и вечное: “Бог есть любовь”. Услышать голос брата своего во Христе, просящего о помощи (я уверен – у каждого из нас есть соседи, знакомые, которым приходится хуже чем нам, которым не помешала бы помощь, да только трудно это – отрывать что-то от себя и дарить другому, безвозмездно)… Хотя бы быть просто способными сострадать. Или еще проще – уважать и прислушаться к чужому мнению, и попытаться понять другого человека, не спеша лезть со своими уже готовыми на все и про все оценками.
Я уверен – такому человеку незачем будет очернять и охаивать фильм “Царь”.
Как не очернял и не охаивал образ “Царя-Батюшки Ивана Грозного” Павел Лунгин.
Фильм то разве про то, какой тот мерзкий был да злодейский?
А может быть он про нас с вами? Про то, что у каждого из нас ВСЕГДА есть выбор – по совести ли жить, или по обстоятельствам?
Верить в того Бога, что говорит с нами голосом совести нашей, или того, кому кланяются в церквях расписных по Великим Праздникам Большие Чиновники Государевы (а нам их в телетрансляциях показывают, со всеми подробностями)…
Лично на меня фильм произвел неизгладимое впечатление. Много дум навеял. Например, такую:
что, погрязнув в “интеллектуальном дерьме”, не найдешь правду. Что бесчисленное множество “правд” есть в мире. У каждого человека – своя. И фильм, в том числе – и о столкновении разных правд. Вот есть правда государственная, а есть правда совести, человеческая. И каждый в своей правде на Бога ссылается, Высший смысл в ней находит.
А что, если нам перестать анализировать и выдумывать пустые фикции, а попытаться быть просто людьми, сынами Божьим? Да хотя бы просто – людьми.
Вот смотришь ты в мир: неправедство творят, люд теснят, сирот обижают, убийства чинят, беззакония – вступись, не побоись. Воспрепятствуй чем можешь.
Сосед счастливо живет – и ты будь рад. Живи, покуда Бог дает шанс, в мире и согласии. И т.п. Простые вроде бы истины.
Ан нет. Посмотрели фильм “Царь” многие наши державолюбцы, и давай тут же его грязью поливать да вспоминать: “Как держава-то крепка была, при Царе-Батюшке (Грозном, Сталине, и т.п.), враги нас боялись, граница ширилась, казна увеличивалась… А режиссер взял, да и опорочил все – Царя, эпоху, народ наш Великий!” И все в том же духе. Много речей таких. Видно, крепко их зацепило!
И ведь видно, что не дураки, образованные, мыслящие люди. Историю знают. Вопросы изучают. За Державу их сердце кровью обливается… Как, собственно, и у главного героя фильма Павла Лунгина. Точно же так! И так же истово Веруют, как Царь, многие из них. А что – верить сейчас “правильно”, страшно сказать – модно.
Вот каким современным, просто на удивление, оказался фильм Павла Лунгина!
Видимо, неискоренимы эти черты в человецах. И всегда будут такие фигуры в истории, как Грозный, и такие, как Митрополит Филипп. И такие, к великому моему сожалению, как опричники, псы Государевы. Ну что ж, Бог нам всем судия.
А от меня лично всем создателям картины – и режиссеру, и актерам, и всей съемочной группе – низкий поклон. Хоть и заставили сердце поболеть да пощемить, но зато жирок с него соскоблили. Спасибо Вам!
Посмотрел фильм до конца - не выключал, не переключал, за действием следил...
С исторической правдой фильм имеет весьма отдаленное сходство. Времена тогда в мире были на самом деле суровые. Но в той же Британии (и в те же годы) людей было казнено и замучено значительно больше, чем в России, только об этом почему-то не упоминают, подчеркивая \"дикость\" и непредсказуемость именно русского народа. Тут такое дело: самые значимые личности, возглавлявшие Россию в периоды её роста, качественного рывка - вот они-то и вызывают больше всего нареканий со стороны западных критиков и их \"агентов влияния\". Отрицать такие вещи невозможно.
Вот период укрепления России - царствование Ивана Грозного: Россия объединяется, новгородские, псковские вольницы включены в единое государство, идёт завоевательное присоединение казанского царства, Малюта Скуратов гибнет в бою под городом Пайде, и т.д.
И Запад (опасаясь новой силы на Востоке Европы), создает легенды о звероподобном деспоте, наслаждающемся видом пыток и крови. Но, тот же царь умудряется оказаться великим книжником (о библиотеке Ивана Грозного легенды ходят до сих пор), увеличивает территорию государства многократно, мстит боярам за своё искалеченное детство, укрепляет \"вертикаль власти\" и следит за тем, чтобы Церковь укрепила свои позиции в народных массах.
Результаты его трудов (в каком виде он принял Россию, и в каком виде оставил) свидетельствуют о большом государственном уме этого человека, о понимании величия своей роли в истории Руси.
Смог ли эту сторону личности Ивана Грозного показать Павел Лунгин?
Добавлю еще, что в истории России было три властителя, при которых Русь подвергалась тяжелейшим испытаниям, но (имея твердую и мудрую власть) преодолевала все испытания. Каждый из таких переломных периодов давался большой кровью и многочисленными (не всегда - оправданными) жертвами. Но страна делала резкий \"скачок\" в развитии, выходя на лидирующее место в мировой политике.
Такими властителями были Иван Грозный, Пётр Первый и Иосиф Виссарионович Сталин.
Каждый из них получил свою порцию обвинений (иногда - вполне справедливых). Но очень редко сами жители (граждане) России вспоминают про то, кого им следовало бы сегодня благодарить за богатые полезными ископаемыми пространства, за приобщение к мироустройству планеты, за то, что народ не утратил своей независимости и пока ещё может сохранять суверенитет.
Что касается православия и церкви, то я лично считаю огромной ошибкой Раскол. Россия заложила ростки собственной гибели именно тогда, когда единый народ был искусственно расколот на старообрядцев и никониан. Про это можно говорить долго, но к фильму отношения эта тема не имеет.
Так что впечатление таково - смотрел фильм, как отвлеченно-абстрактную телепостановку с очень интересными для меня актерами. Воспринял сюжет как притчу о власти земной и власти Небесной.
Роль Малюты Скуратова считаю провальной.
Достаточно противоречивые чувства...
Ладно, и так \"много букофф\"...
Что, все специалисты по эпохе Ивана Грозного так дорого просят за совет или их никто не спрашивал?
Что мог увидеть в Грозном необычного «весь мир»? Ну, разве только то, что тот не только казнил, но и потом бегал по монастырям каяться. Неуместная для монарха того времени рефлексия. Я бы даже сказал — забавная. А возможно, что и пугающая. Возможно, именно эта черта и легла в основу мифа об Иоанне Грозном как о самом жестоком правителе своего века, а заодно и о «широкой и необъяснимой русской душе», которую так любят поминать зарубежные и отечественные русофобы. В Европах — там все понятно: казнили — значит, надо было. Никакой рефлексии, одни награды..."Ужасный , ужасный Иван", Иван Террибле , Иван Грозный для врагов, защитник Святой Руси. Лунгина лишить финансирования и судить за клевету.
Да, лучше прогневить Бога, но не царя. Вот так жил и живет весь наш народ: лучше прогневи Бога, но не того, кто стоит над тобой и требует от тебя совершить подлый поступок.
после просмотра люди выходили совершенно молча, как будто им показали доселе неизвестное их духовное нутро..и им нечего на это возразить!
о своих впечатлениях долго думал и пришёл вот к каким выводам:
1) Работа оператора: остаётся такое ощущение, что снимается какое-то маленькое пространство, и Кремль, и сад Митрополита Филарета, и бойню-ристалище у моста...нет широкой картины Москвы, живой жизни его люда, ...лишь видна работа массовки.
2) Игра актёров: а) ШУТ - я начал бы как раз свой комментарий с роли второго плана; о. Иоанн Охлобыстин - это мастер высшего порядка!, с которого за его великолепно сыгранную роль, во-первых: я снял бы сначала рукоположение сана(да простят меня православные), а во-вторых: сразу бы наградил Оскаром! Нет, не его брызганье слюной сподвигло меня так думать, а его совершенно правдоподобные шизо-параноидальные выпады и идиотико-душевно-неполезные тирады.
И не шута он вовсе сыграл, а внутреннюю подспудную сущность Ивана Грозного!
б) Пётр Мамонов - это была не игра актёра, но прожитая жизнь на острие ножа...глубина судьбы человека с глазами-буравчиками, смотрящего на своих врагов через призму прямого разговора с Богом. Может ли быть отходчив душою, даже на время, душевнобольной, возомнивший себя наследником единственной правды на земле!?
в) Олег Янковский - нет, не потерялась сыгранная им роль митрополита на фоне Царя, он сумел донести до нас свой образ кроткого митрополита Филиппа, который вдруг осознал, что он то борется один на один с бесноватым, а тут только любовью и кротостью можно что-то сказать и увещевать к уму! Но поздно уже, только молиться осталось...именно это было трудно показать, но Олегу Янковскому это блестяще удалось!
г) Домогаров - я поверил, что этому человеку на дороге лучше не попадаться, он точно ухватил образ молота-возмездия царёва..
д) Юрий Кузнецов - Малюта Скуратов был тихо-свирепым Малютой в единственном эпизоде: разговор в застенках с митрополитом Филиппом, и всё-таки не было в его глазах и повадках проникновенной жестокости..проникнуться бы ему ощущением своего героя-палача..
3) Опричнина - Мария Темрюковна, до крещения Кученей, — вторая жена Ивана Грозного, дочь кабардинского князя Темрюка - хорошо сыграна роль и хочется отметить, что во время просмотра не покидало всё время ощущение того, что Опричнина выглядела как секта, в чёрных балахонах с собачьими головами на поясах и возможно мракобесие царя и связано с Марией, которую Павел Лунгин показал царицей-хозяйкой влияющей на царя.
ИТОГ - Впечатление от фильма следующее:
Кто бы что бы ни говорил, но такие фильмы нужны даже просто для того, чтобы в периоды хождения разной около-\"православной\" литературы по настоятельной канонизации в лик святых Ивана Грозного показать, кто на самом деле был царь, этот больной, с частой сменой периодов ремиссии и рецессии.
И не поймут этот фильм на Западе, по не состыковке своей ментальности со здешней смешанностью дикого язычества с духовной чистотой правдолюбия!
Павел Лунгин - молодец!
Бесподобна игра Мамонова, Охлобыстина(просто нЕчто!), Макарова, и ,конечно,несравненного Янковского. Фильм потряс.
Просто нет слов. Сильный, эмоциональный, качественный.
Единственное упущение- необходимо информировать зрителей,что фильм очень тяжелый и не любая психика его выдержит. Мне было очень тяжело смотреть.Подробно показаны пытки,казни.
Кровь,насилие,убийства...
Если вы можете спокойно смотреть,как у человека выворачивают кишки-тогда вперед.
Царь явно отождествляет себя с государством, соответственно считает любое возможное посягательство на его персону угрозой для державы. Кроме того, видится, что люди, находящиеся в непосредственной близости к царю и пользующиеся его доверием, демонстрируют куда более подлые и безжалостные черты, нежели сам Иван Грозный. Царь же в этой ситуации выглядит человек несчастным, обманываемым своими приближенными, не ценящим людей, которые осмеливаются сказать ему правду. А ведь он сам именно об этом просит Филлипа, призывая того на пост митрополита...
Писать что-либо о митрополите сложно - это, действительно, пример святости и высшей духовности...
Этот фильм ставит вечные вопросы Бытия.
Это фильм о высоком звании христианина и о том, как трудно по-настоящему быть им. Поэтому фигура филарета выглядит здесь главной, а царя - скорее оттеняющей.
Но и тот, и другой - это символы. Толпа народа - это тоже символ (символ покорности).
Русских характеров здесь искать не надо. Фильм этот поднимает значительно более глобальные вопросы. Это фильм не для всех. Фильм надо смотреть самому,не слушая чужие мнения.Отзывы лучше почитать после просмотра.
Жуткий фильм.Тяжело смотреть,но интересно,на одном дыхании.Янковский и Мамонов сыграли замечательно!!!!!
Первая половина фильма, игра Мамонова никакая - ну ни царь и всё...полубомж из \"Острова\" во, что бы не одевали. Далее вжился наконец и потянул лямку Ивана Васильевича.
Янковский - это актёр от Бога. Великие - уходят.
Окружение царя, - верю почти всем, кроме шута. Это же не скоморох или карла. Шут - это юродство и ум, а тут заученный, бездумный монолог.
История:
Многие спорят о его исторической достоверности и ярких гранях белое-чёрное. Незнаю, как об этом сказать, но думаю так. Сталинская эпоха была недавно(по истор. меркам) и что? Вопрос по ней до сих пор неоднозначный, так зачем спорить о том что было столетия назад и утверждать \"правда - не правда\" со ссылкой на исторические источники и тем более я не видел надпись в фильме, что он ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ. То что показаны люди с чёткими гранями плохой-хороший. Так повторюсь это фильм, который снимался с явным подтекстом. Каким? Ниже - в выводах.
Фильм.
Мрачный. Из-за обилия в сценах трупов. Понимаю,- Лунгин пытался передать атмосферу беззакония и ужаса правления Ивана Грозного. Другого способа видно не нашёл. Сцена битвы за Псков у моста - лучше совсем б её не было. Выглядит местечковой стычкой. Массовка - как говорил мужичок из мульт/ф \"Падал прошлогодний снег\" \"..маловато..маловато будет!\"
Хорошо обыгран момент лжегонца из под Пскова. Конь чистый, сначала думал промах режиссуры - ан, нет(плюсик). Отличная сцена низложения царём Филиппа. Да и в остальном, на мой вкус фильм крепенький и хорошо сколоченный.
Итоги.
На мой взгляд задача Лунгина выполнена. Фильм заставляет после криков, \"...а зачем это было отснято, итак знаем, что живём в дерьме. Позитива давай -позитива...\" Потом заставляет в себе начинать ковыряться, что хорошего в тебе и что плохого. Режиссёр умело выставил добро-зло, хорошо-плохо, дав эталон для примерки самого себя. Поэтому на мой взгляд в фильме отчерчена грань чёрного и белого.
Сама задумка - отличная. Фильм как бы состоит из отдельных сцен, проходящих по жизни героев. Особенно понравилась сцена вначале фильма - когда царь выходит к народу из своей кельи - по пути облачаясь в одежды и превращаясь из богобоязненного человека в жестокого правителя.
Пару слов тем, кто пишет об \"исторической справедливости\" и \"хуле на царя\". Ответим словами Юрия Юлиановича: \"В песне не понял ты, увы, ничего\".
Фильм не о Иване Грозном - фильм о нас, о нашей сегодняшней жизни, о рабской психологии человека, которую абсолютно никак не изменили века технического прогресса. О том что человек может грешить и каяться практически одновременно, говорить о любви и убивать, клясться в верности и предавать.
Смотрите на тех людей в храме, на глазах у которых бьют митрополита и они не шелохнуться - это МЫ. Смотрите на людей, которые злословят и кидают хлам в митрополита, когда его везут в клетке - это МЫ. Смотрите на тех, кто строит в угоду царю пыточные орудия (колесо, которое должно было стать частью мельницы становится пыточным орудием) - и это все МЫ.
В чем ты видишь божью руку царь?
Это только начало.
История народа в его лидерах, в их жизни. Самооговор и признание как единственный вид доказательства вины,
молчание народа в стахе живущего, верность слуг, беспощность духовно-нравственных авторитетов.
Как итог - смерть. Одиночесто - результат бегущий бессмысленной дороги жизни, служение идеалам и идеям. А люди? Как же люди?
Храни нас Бог. Прости и помилуй за грехи наши и грехи предков наших. Выведи и наравь. Укажи путь спасения нам и вожакам нашим и открой глаза наши и ум наш просвяти. Буть милостив. В руках твоих все ибо мы не ведаем что творим.
Каждый народ достоин своего правительства!Поэтому предлагаю всем посмотреть этот фильм и оценить себя в первую очередь:Какие мы на самом деле сейчас,вспомнить о Боге и проанализировать свою жизнь-какие мы?Насколько наша жизнь соответствует Новому Завету,совершаем ли мы заповеди.Кто пытается жить по ним знает на сколько бывает не просто их совершать и тогда становится понятней о чем говориться в этом фильме!И священник съигравший шута знает про искушения дьявольские лучше всех(потому что священослужители борятся с ними каждый день) и лучше него съиграть эту роль не смог ни кто!МОЛОДЕЦ!И ИЗ ЦЕРКВИ УХОДИТЬ ЗА ЭТУ РОЛЬ БЫЛО БЫ ОШИБКОЙ!!!Кому что то не понравилось-так это их проблемы!
ПРЕДЛАГАЮ ВСЕМ нам РОССИЙСКИМ ГРАЖДАНАМ начать меняться в лучшую сторону:кому в какую решать каждому,но пора меняться.Давайте станем немножечко добрее,терпимее друг к другу,смелее,решительнее когда нужно отстоять правду,станем честнее,перестанем на все закрывать глаза ведь от нас многое зависит на самом деле,и конечно ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА -на ней все держиться!Я думаю что фильм именно об ЭТОМ!!!
Фильм очень духовный и полезный для всех нас- во исцеление душ!И не важно где мы работаем,или служим- в думе,или простым рабочим - перед Богом все равны. Всем отвечать придется перед Ним каждому в свое время!!!
Спасибо за Фильм!Я верю,что Янковский сейчас у Бога в лучшем месте!Светлая ему память!
Это тест на развитость, те кто не доросли - не поймут
Хотите спецэффектов и экшена господа ? Вам в другие двери.
Да, фильм о нашей истории, нашем русском характере, зачастую настолько непредсказуемом, что вызывает ужас. Мы одновременно жестоки и милосердны, злы и добры, сентиментальны и мягкосердечны. И какое наше качество одержит верх не можем предсказать мы сами.
И все же идея фильма заключена в словах: \"В каждом есть ад.\" Каждый, кто посмотрит фильм просто обязан вспомнить о своем аде и покаяться.
Игра Мамонова и Янковского великолепна. Малюта Скуратов вызывает одновременно и жалость, и восхищение. Если по учебникам истории он представлялся чем-то мифическим, то после фильма это вполне реальная личность.
Не понравился шут. Роль не обыграна, скомкана, безлика.
Ответ на этот вопрос, после просмотра фильма \"Царь\" ясен и очевиден, не один из правителей нашего государства не любил свой народ, хотя бы самую малость. К сожалению, народ в нашем государтсве всегда выжывал, и настоящие дни выживает не благодаря кому-то или чему-то, а вопреки.
Сходить на фильм стоит, хотя бы потому, что у нас в стране излюбленным делом является изливать своё г...о и хаять всё подряд, лучше самому без посторонних решить, нравится или нет. В общем и целом фильм неплох.
Мамонов Ещё в \"ОСтрове\" показал своё мастерство и здесь игра его не была исключением! Смотря этот фильм в кинотеатре, поп-корн вряд ли кто сможет\"кушать\"! После просмотра Первое, что приходит в голову:\"Слава Богу , что жить в эту пору \"прекрасную\" не пришлось жить ни мне не тебе!
Так что историчесим его нащвать нельзя. Как обычно оссийчкий кинимотогроф может елать только Детективы и триллеры в остольное им лучше не лезть,))))
Итог: сделайте выводы и постарайтесь изменить свою жизнь.
Огромное спасибо Лунгину, Мамонову, светлая память Олегу Янковскому и всем учувствовавшим в этой сложной работе.
Что мешало тому же Малюте не мучать и не казнить людей, а отказаться от этого?? Да то мешало, что боялся он царя, боялся, что за отказ и его казнят, и семью его. Вот и мучал людей. И это все можно сказать о всех нас, за очень и очень малым исключением. Потому и творим мы беззаконие, боясь потерять семью, работу, жизнь.
Не знаю почему, но Мамонова в роли царя с трудом восприняла в начале фильма, к середине уже практически поверила, что это и есть царь. Фильм неоднозначный: с технической точки - фильм без наворотов, с актерской - напряженная игра актеров, чего-то не хватает, с исторической - тоже все неоднозначно и много неточностей. Хотя чем все возмущаются?? Что не было столько крови на Руси??? Что Иван Грозный был благодетель и народ любил его? И то, что он был фанатично религиозным еще не делает его святым, внешняя религиозность - не есть вера в Бога. А то, что он пролил море крови безвинных людей - так это и доказывать не надо.
И вообще ситуация была сложная и страна сложная. Так что царь с одной идеей вряд ли сумел что-нибудь сделать, так же, как через 4 века ничего не получилось у ультралевых, а у большевиков получилось.
Вот Филипп понят правильно, он по общественно - политическим взглядам не сильно отличается от царя, да и святым стал только как невинно убиенный. А суть в том, что он твердо стоит на фундаментальных ценностях.
К сожалению, фильм удобен для очередного антироссийского шабаша в \"либеральных\" кругах. Кинокритик г-н Кичин уже выговаривает режиссеру в \"Российской газете\" за то, что не показал холопство и вороватость (!!) русского народа. К чести авторов, все-таки сняли исторический фильм, а не поделку к очередному выступлению друзей из либерально - западнического лагеря, что часто бывает.
Да, согласна здесь Иван гр. показан не неоднозначно... почти полностью отрицателен...
но в остальном мне не к чему придраться... вот прошла уже неделя с просмотра фильма.. я до сих пор под впечатлением.ЗАЦЕПИЛО
А где народ? Там где ему и положено быть в таком государстве! Так и живем!?...
В данном фильме суть важнее чем качество его изложения.
З.Ы. Можете ставить мне свои минусовки, я не расстроюсь.
И очень смешно читать \"истерические брюзжания\" московских шовинистов: \"письмо обиженного юриста\" и иже с ним.
Учите историю, господа! И не по вашим учебникам, а обращайтесь к первоисточникам. Архивов у вас предостаточно, в том числе награбленных в ходе \"собирания земель русских\".
Посмотрела фильм по ТВ в рождество. Забавно, что он \"смонтировался\" с сюжетами новостей, где доминировала тема\" православного президента\". Моя подруга, большая эстетка, обожает Мамонова и фильм \"Остров\", может смотреть его бесконечно.После просмотра \"Царя\" в кинотеатре она скромно заметила, что фильм хорош, но посмотреть она его снова не сможет... Моя подруга, кроме того что эстетка, еще и эпикуристка, не желающая никогда \"грузить\" себя размышлениями о трудном... Что касается меня, то после фильма осталось тягостное чувство \"дурной бесконечности\" противостояния между духом и гадостью в нашей жизни. Я считаю, что такие фильмы недостаточно просто \"прокатывать\" в кинотеатрах и показывать по ТВ. Необходимы обсуждения и комментарии(хотя бы вместо отупляющих, истеричных и абсолютно безобразных ежевечерних ток-шоу Андрея Малахова ). Форматы могут быть разные, но обсуждать нужно много и долго, чтобы смысл дошел. Лично на меня особое впечатление произвела тема \"свиты\", которая \"сделала\" царя и \"уделала\", говоря в современных понятиях, Филиппа. Шестерки, а все смогли. Потому что не шестерки, а шестеренки... Вобщем, в фильме много пластов и смыслов, много разных посланий. По силе воздействия он напомнил мне \"Андрея Рублева\" Тарковского. Смотрела в студенчестве. Вышла из кинозала и стала заикаться... Историческую достоверность в деталях не обсуждаю. Как и некоторые участники обсуждения, считаю, что исторический контекст условен и имеет право.... Важнее- \"скрытый обучающий план\", но, повторюсь, его НЕОБХОДИМО КОММЕНТИРОВАТЬ, поскольку \"история ничему не учит\", и новые иваны с сотоварищами, судя по всему, уже на подходе.
Наверное тут слова и обсуждения лишние.т.к.
Это фильм об истоках того Быдля4ества и животного Мракобесья и Невежества (сожжение священников), что присуще русскому народу и его отношению к власти и в принципе, ко всему мироустройству (покланье в ноги царю-батюшке), уходящее корнями в его языческое прошлое (сцена с медведем) и в конце концов выльющееся через несколько веков в революцию 1917, когда страна просто потеряет себя в цивилизации.
...Фильм «Царь», привнесенный на гребне «успешной островной» волны, был сконструирован опять же как притчевый – с глобальным (как в «Острове») посылом и двумя крупно-плановыми персонажами в качестве «Давида и Голиафа». Одновременно он же подан как историческая драма времен 36-тилетнего Ивана Грозного. Эта двойственность (притча и одновременно историческое действо) добавило полярности в зрительских оценках. Так, апологеты притчевого посыла - «то, что мы называем русской властью», противно человеческой природе и царю небесному - ожидаемо реагируют в стиле «Лунгин супер!». Многие же другие (в том числе авторитетные историки, литераторы и церковные деятели) не просто с этим не согласны, но и, сверх того, напирают на антиисторичность и русофобию, в художественном же плане определяют картину как гротеск, бутафорию, лубок. Или, перефразируя Черномырдина – хотели как притчу, получилось как китч.
....Кстати, по формулировке посыла. Что касается первой ее половины (до запятой), она исходит от самого Павла Семеновича (см.alldayplus.ru/lifestyle «Грозный царь – грозное время»): «Иван Грозный во многом определил…то, что мы называем русской властью»…и от него же, рефреном чуть ниже – «…заложил основы того, что мы теперь называем русской властью». Что касается второй половины (после запятой), в фильме «Царь» соответствующая символика возникает в знаменитой сцене с медведем: свирепый зверь терзает блаженную девочку (читай Русь) и одновременно втаптывает в грязь ее икону (читай религию).
... Имея в виду «разобраться в психологии власти» (ни больше ни меньше!) и как результат сотворить «более личное кино» - по сравнению с «Иваном Грозным» Сергея Эйзенштейна - Лунгин рассчитывает «познать внутреннее состояние Ивана Грозного через его (П.Мамонова) душу»… Ну, нет нам преград! Вот бы еще и Мамонов со своей «душой» и брендовым ликом был бы лет на тридцать помоложе - для той же самой «достоверности» и «близости к историческим реалиям»… Впрочем, если дальше повернет к экранизации того, как «то, что мы называем русской властью» укрощало новгородскую «ересь жидовствующих» (соответственно, и к исторически более позднему действу с Иваном Грозным в главной роли) - фактурные аргументы Петра Мамонова, может, окажутся и более кстати
....На этой оптимистичной ноте можно бы и закруглить тему «Царя». Пара-тройка серьезных вещей сказана (как я это вижу) и ладно. Если же буквально все препарировать – сценическую конструкцию пахан-братки-быдло как образ «тысячелетнего рабства», методично педалируемый видеоряд с медведями, виселицами и дыбами, батальон «кающихся магдален» (только что из фитнесс-центра), младую царицу в стиле подруги Прохора Петровича (из «Охоты на пиранью»), реплики центрального персонажа типа «И сотников и воевод всех на кол посажу!», перегруженность действия символикой - легко и самому впасть в то, на что намек. В отсутствие чувства меры. Единственно разве что, не удержусь напоследок про немца – того, что «леонардово» колесо к «делу» приладил. То есть, по символике Лунгина немец с русским заодно, чуть коснись тиранства, попрания свобод, душегубства и т.п. А что так? Понятно, что спиннинг здесь закинут и в мутные воды Третьего рейха… Но ведь не только туда, но и во всю, почитай, историю той самой «русской власти». Так, немецкие наемники совместно с русским войском буквально несколькими годами позже (в 1571году) отважно отразили набег на Москву крымского хана Девлет-Гирея (знаменитое сражение на речке Рожайка). В XVII веке и далее немцы конкретно несли культуру и просвещение России (Кукуйская слобода и т.п.), за Россию же сражались и гибли. Соответственно, одним из столпов Дома Романовых стало со временем немецкое кастовое ядро, которое удерживало в государстве многие скрепы и которое радетелям тогдашних «свобод» и «прав человека» (так называемым западникам) вполне было за что невзлюбить.
...Дьявол в деталях, а в кино детали – зачастую символы. И в этом смысле умное кино -всегда в какой-то степени «бал сатаны». В принципе, рабочая, творческая для честолюбивого художника ситуация… Главное здесь, чтобы реально оценивать себя и свое творчество - через это и избежать дьявольского искушения на собственное бессмертие. К стыду ли своему или нет – уж как получится, Павел Семенович.
Фильм «Остров» — сильный смысловой сюжет, «Царь» — тоже не слабый, но посмотрев его («Царь») навряд ли воспламенеешь любовью к своему государству.
Но вот,к сожалению,много исторических несостыковок,да и образ царя мне показался какаим-то двойственным,незавершенным.Например,его высказывания о том,что как человек он грешен,а как царь праведен настолько странные,что тут можно спорить с оппонентами до бесконечности.Конечно,в картине заложены глубокие мысли о власти земной и небесной,о тирании и всепрощении,о наказании и смирении,о вере и предательстве,но как-то подается это все сумбурно и невнятно.Некоторые сцены оборваны и незавершены.
Царь строит Новый Иерусалим на страданиях и горестях народа,который стонет под властью тирана,а на таком фундаменте никогда не попасть в Царствие Праведников...Фильм заставляет задуматься,а это уже немало.Определенно советую смотреть.
Итог таков: Не так важна достоверность исторических фактов(я уже не воспринимаю все на веру) и кровавость сцен (постоянно видишь такое с экрана). Меня поразили талантливо представленые образы. Актерам удалось сыграть то, что мирное население не может представить. Я полагаю, очень сложно изобразить переживания митрополита и одержмость идеей царя.
О художественной стороне фильма. Что мне безусловно понравилось - так это образы Ивана, Марии Темрюковны, Малюты. Что понравилось более или менее - образы Басманова или Ивана Колычева. Более всего спорными мне показались Шут (явный закос под Шута Олега Даля из \"Короля Лира\") и сам Филипп - все-таки, Янковскому просто физически тяжело было играть эту роль, и она получилась вымученной и отстраненной. Человек уже наполовину в другом мире, а ему приходится возвращаться в страсти мира этого. Совсем не понравился мне \"Поцелуй Иуды\" (Иван целует Филиппа - знак палачу) - это вещь просто невзможная. Слаб немец Штаден. Основная музыкальная тема хороша, но ее иногда, в наиболее драматических местах, сбивает на католические мотивы - это никуда не годится, это грубый ляп.
Охлобыстин отлично сыграл.)Вообще высший балл
В результате пришла к выводу,что посоветую посмореть его своим друзьям!
Янковский прекрасно сыграл!Последняя роль!Достойно!
Отзывы критиков (анонсы рецензий)
После обширного травматического опыта отечественных премьер последних лет на «Царе» правда чувствуешь себя, как на неожиданном прекрасном банкете. Будто с тобой несколько месяцев подряд пытались разговаривать исключительно междометьями, а тут вдруг пришёл человек и заговорил связными красивыми предложениями на литературном русском. И самое прекрасное, что ему при этом было, что сказать. В общем, жесткое, сильное, глубокое и нелёгкое, прекрасно выполненное настоящее большое кино
Лучшее в фильме - актерские работы. Митрополит-Янковский и царь-Мамонов, сыгравшие основной конфликт, приковывают к себе все внимание и вызывают искреннее восхищение. Олег Янковский, сыгравший в фильме свою последнюю роль (которых - без малого восемь деятков), каждый кадр наполняет своей харизмой - в движениях, взглядах, речи сыгранного им митрополита столько достоинства и спокойной силы, что ему веришь до последнего. В образе Грозного, исполненного Петром Мамоновым, поражает диапазон эмоций, которые он вызывает на экране. От изощренного злого деспота до жалкого больного старика, оставленного богом, - Мамонов умудряется выглядеть и жутко, и смешно, воплощаясь то в кровавого маньяка, то - буквально в Горлума, скандалящего с самим собой.
Лунгину, вместе с Алексеем Ивановым написавшему сценарий, и Петру Мамонову, гениально исполнившему заглавную роль, удалось ухватить главное: мысля воздвигнуть на земле Небесный Иерусалим, Иван строит его по модели апокалипсиса. Однако непрестанное штудирование Откровения Иоанна Богослова не прибавляет религиозной мудрости царю: Страшный суд, который, в православной традиции, страшен именно тем, что в каждом обнажится его суть, разлучающая с Богом, у Грозного превращается во всеобщую экзекуцию. Другой полюс разворачивающейся в фильме духовной брани – призванный в 1566 году в митрополиты соловецкий игумен Филипп. Игра Олега Янковского в роли Филиппа максимально выражает тот одухотворенный минимализм, который был опробован Лунгиным в «Острове» и – минуя довольно неврастеничную «Ветку сирени» – снова приведен в действие в «Царе».
Выразительность — традиционный козырь и главная погибель Павла Лунгина, в прошлом регулярно утаскивавшая его на территорию, куда интеллигентные люди ходить стесняются, — едва ли не впервые за фильмографию сослужила режиссеру однозначно добрую службу. «Царь», безусловно, самый изящный лунгинский фильм: аскетичный, будто написанный скорописью (в первую очередь благодаря летучей камере американца Тома Стерна, оператора всех новейших фильмов Иствуда), напрочь лишенный присущих костюмному кино нафталиновых обертонов, на две трети построенный на чередовании белого и черного — то черные люди на белом снегу, то белые лица в темноте. Даже законному (учитывая людоедское время действия) искушению плеснуть поверх этих двух цветов красным Лунгин противостоит с неожиданным для режиссера его темперамента упорством.
Фильм, заботливо разбитый на четыре главы — «Молитва царя», «Война царя», «Гнев царя» и «Веселье царя», оказался на голову выше подавляющего большинства отечественной кинопродукции последних лет. Но после финала картины, который почти прямым текстом рифмуется с пушкинским «Народ безмолвствует», остается ощущение какой-то недосказанности, причем не из тех, что хороши как художественный прием.
Лунгин всегда был прямолинеен на грани пошлости, а тут, похоже, превзошел самого себя. Его «Царь» больше всего похож на грубо выточенную из дерева детскую игрушку, в которой медведь и кузнец попеременно стучат по наковальне. Наковальня – Россия. О чем бы ни собирался говорить режиссер, у него получился разговор скорее о шизофрении и о религиозном самосознании, чем о природе власти. Но это совершенно неважно – о чем он хотел говорить и что у него получилось. Важно, что возник сам разговор.
Фильм снят бюджетно — три с половиной десятка статистов разыгрывают столицу Московского царства, в которой ведется многолетний теологический диспут между Иоанном и его бывшим другом. Бедность постановки, разумеется, не порок. Проблема фильма Лунгина — не в сдержанности спецэффектов, а в языке. «Царь» снят как снимали телефильмы в 80-х, то есть это чистый спектакль, но на натуре и с пиротехникой. Мамонов привычно корчится и витийствует, то и дело — и каждый раз кстати — цитируя Священное Писание, Янковский цитатами не бросается, а просто устало смотрит и тихо просит покаяться. Разговор не клеится. Так проходят долгие два часа. Эффект выходит предсказуемо оруэлловский, анархический: фраза «Всякая власть от Бога» произносится в «Царе» так часто и по случаю таких кровопусканий, что вопросы, нужна ли вообще эта самая власть, возникают очень быстро.
Тягучая режиссура Лунгина притупляет восприятие и к невразумительному финалу уже просто вгоняет в сон... Но это все, в конце концов, не главное. А главное — о чем фильм? О том, что Иван Грозный был тираном? Так это мы и так знаем. А те, кто интересуется историей, знают и то, что в сравнении с кровавыми тиранами, которые в те же времена правили и в Европе, и в Азии, наш Иван Васильевич теряет весь нагнетаемый имидж массового убийцы... Если же речь о противостоянии духовной и светской власти, так это сейчас, в эпоху расцвета махрового клерикализма на государственном уровне, крайне неактуально. Однако профанация нынче в моде — и я не удивлюсь, если клерикалы от кино объявят «Царя» великим произведением искусства и начнут осыпать его незаслуженными призами... И народ, как ему и положено, опять будет безмолвствовать.
Картина действительно воспринимается зрителем как штучный образец настоящего кино, но не выдерживает никакой критики как целостное серьезное историческое полотно. Безусловно, все эти интеллигентские россказни про то, как вера объединяет, а власть разделяет, очень хочется принять такими, какие они есть. Им пытаешься открыться, но внутри что-то противится. Противится уже традиционному для режиссера богоискательству, в котором чудотворные иконы рыдают навзрыд, юродивые исцеляются, навешанные кандалы спадают ниц от святости, а за кадром звучит постоянное «Покайся!». Скорее всего, такой подход к истории противится и самому Лунгину, в голове которого происходит постоянная борьба между искусством и конъюнктурой. В итоге, сталкивая душеспасительную притчу с исторической реальностью, режиссер не пришел ни к чему, кроме их конфликта друг с другом.
В какое же русло ушла, обмелев, авторская мысль? «Царь» – и этим сказано действительно всё, особенно если учесть специфическое, резко отрицательное отношение режиссёра к власти как таковой, а уж к носителям власти в нашем Отечестве и подавно. Лунгин использует весь свой талант для создания запоминающейся атмосферы тотального террора, насаждаемого лично и через посредство опричников Иваном Грозным, на которого периодически, дескать, и находит жажда покаяния – но быстро уступает место откровенно садистским наклонностям. Пётр Мамонов и сценарист-дебютант Алексей Иванов решили превзойти советского классика – и теперь даже не требуется мнения группы компетентных товарищей, чтобы констатировать: царь получился у них чем-то наподобие… Джека-потрошителя. Ничего не скажешь, оригинальная трактовка!
Какой-то апофеоз пошлости в пустоте. Почему? Потому что нет на экране ни пространства, ни времени. Планы очень короткие — как в телевизоре, хотя платим-то мы за билет в кино. Камера почти не движется — не дай бог шаг в сторону, и вылезут машины на шоссе да столбы с проводами. За счёт подобной пасхально-открыточной неподвижности ничего и не происходит. Все «позируют на фоне» отдельно друг от друга, мизансцены не складываются — соответственно не складываются отношения, не говоря уж о психологических играх. Можно думать, что Павел Лунгин слышал о параллельном монтаже, обертонном и даже «вертикальном» — Эйзенштейн это всё написал много лет назад. Но вот о внутрикадровом монтаже Лунгин не слышал никогда. Слово «трэвеллинг» он вряд ли сможет произнести. Все два часа, заняв места согласно купленным билетам, люди сидят и смотрят практически в одну точку. Тёмное пятно Роршаха. А любая попытка его интерпретации уже означает готовый диагноз от психиатра.