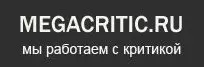Дикое поле
зрителей
отзывов с оценкой
Описание о чём фильм
Отзывы зрителей
Оставить отзыв
Спасибо Гордону, что показал фильм по ТВ - спас от растраты семейного бюджета на покупку диска. Как коллега главного героя (я врач почти в таком-же захолустье), скажу всем создателям фильма: Не нюхали вы потроху! От начала до конца всё фальш!
Врач заготавливает какие-то травы, фасует и сортирует их по ящичкам без табличек (подразумевается, что он нужные травы найдёт вслепую), но весь фильм всем и вся нудит об отсутствии лекарств. И главное, травами никого не лечит!
\"ТТ-шников\" в штатном оружии МВД нет. И \"Калаш\", при его наличии, опытный мент абы куда не кинет (в сцене, где хотели голову на сувенир отчекрыжить).
За удаление пули по методу главного героя, лично мне Минздрав бы лично засадил пулю в неприличное место. И врач с такой курортной жизнью, где больные заглядывают на приём раз в неделю, после проведённой операции, не впал бы в спячку от счастья. Да и больная куда девалась не ясно.
Говорите, не в реале дело? А зачем снимали-то?\"
Вы меня извините, но, что за бред вы тут написали?! насчет фасования трав я вам отвечу- Когда он из складывал, то довольно таки четко было видно, что к мешочкам были прикреплены листочки из блокнота и подписями. Пулю он достать по другому не мог, я бы на вас посмотрел. В спячку он упал потому, что к нему привезли раненных почти утром, а закончил он ночью. Про оружие я вообще молчу. ТАК ЧТО НЕ ПОРТИТЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О ФИЛЬМЕ!!
Врач заготавливает какие-то травы, фасует и сортирует их по ящичкам без табличек (подразумевается, что он нужные травы найдёт вслепую), но весь фильм всем и вся нудит об отсутствии лекарств. И главное, травами никого не лечит!
\"ТТ-шников\" в штатном оружии МВД нет. И \"Калаш\", при его наличии, опытный мент абы куда не кинет (в сцене, где хотели голову на сувенир отчекрыжить).
За удаление пули по методу главного героя, лично мне Минздрав бы лично засадил пулю в неприличное место. И врач с такой курортной жизнью, где больные заглядывают на приём раз в неделю, после проведённой операции, не впал бы в спячку от счастья. Да и больная куда девалась не ясно.
Говорите, не в реале дело? А зачем снимали-то?
Это лучший фильм, что я видел за последние 30 лет!
Да здравствует русское кино!
Спасибо, что Вы есть - все кто создавал Это!
Браво! Люблю Вас!
Отзывы критиков (анонсы рецензий)
"Дикое поле", состоящее из двух простых, но больших вещей — космоса над головой, земли под ногами и, в качестве бонуса, мазанки-хутора-юрты посередине, примыкает к той замечательной линии евразийского кинематографа, которая начинается с "Земли" Довженко и заканчивается в районе Внутренней Монголии, где уже не фильм осваивает пространство, а само пространство порождает фильм: важный факт, который монгольские режиссеры, на радость фестивальным отборщикам, прекрасно в свое время уяснили. К этой линии, однако, фильм Калатозишвили примыкает где-то посередке в полном соответствии с географией ("Поле" снимали в Казахстане) и литературной основой — сценарием Петра Луцика и Алексея Саморядова. Скифов-мифографов, западной, однако же, закваски. Вырастить на диком поле, по которому отправилась в свободное путешествие страна, осмысленный, съедобный мессидж — большая задача новой киномифологии, которую Луцик с Саморядовым поставили перед русским фильмом в 90-е. Прошло десять лет, в воздухе опять запахло путешествиями, и к ней начали возвращаться заново. И второй, после "Эйфории", шаг сделан, кажется, в верном направлении.
«Дикое поле» снято по сценарию покойных Петра Луцика и Алексея Саморядова («Дюба-Дюба», «Лимита» и, главное, «Окраина»). Поэтика соответствующая: суровый эпос, проглядывающий за тревожными и осознанно дурацкими сценками из провинциальной жизни, идиотская духовность вопросов к отвернувшемуся Богу, дикое пространство, народное мифотворчество, короче — страшная русская хтонь. Болит душа, налейте ему водки, откинулся — не страшно, утром будет живой. Все это, в общем-то, есть в фильме Калатозишвили, но вот шевелящаяся от ужаса русская земля, этот главный герой текстов Луцика и Саморядова, эта прародительница запойных былин и всепожирающая полуазиатская бездна, не живет, не бьется здесь, как прежде, в буйном припадке, а лежит, погребенная под бесконечно красивыми пейзажными кадрами.