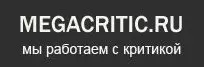Морфий
зрителей
отзывов с оценкой
Описание о чём фильм
В фильме Морфий, снятому по рассказам михаила Булгакова, молодой доктор Поляков приезжает в провинциальную больницу. Там царят жуткие нравы и полнейшее невежество людей. После нескольких проведенных операций доктор подсаживается на морфий.
Отзывы зрителей
Оставить отзыв
Убогий символизм, никакого раскрытия персонажей, все прямолинейно неэмоционально.
Обидно. Я, видимо, из тех, что хотели увидеть больше булгаковского реализма, чем балабановского натуралистичного символизма.
1. Откуда взяли умирающего непонятно от чего дифтерийного больного? В \"Записках\" его нет, а, если хотелось подраматичнее начать, есть прекрасный эпизод про невесту, которую лошади неудачно ударили головой об ворота.
И зачем было делать этому умирающему искусственное дыхание рот в рот? Он и так отлично дышал, аж дифтерийные хлопья в разные стороны летели.
2. Первый укол морфия был сделан от аллергии!!! Не смешите!
А раствор для второго уже ждет готовый на квартире Полякова? И Поляков сам делает себе укол? Тоже бред, Поляков еще не \"подсел\", и постоянно готовый раствор ему при себе не нужен. А, чтобы сделать укол, медсестры есть.
Это потом, попав в зависимость, Поляков начнет колоть себе морфий, как попало, не всегда заботясь о стерильности. А сейчас он пока что врач.
3. Откуда взялась вдова-кокотка? Вставлена в сценарий, чтобы \"оживить произведение\"?
4. Лён зимой не мнут.
Дальше не смотрел, стошнило.
А что касается медицины - то, как врач, притом хорошо знакомый и с историей медицины, и с массой медицинской литературы 19-го века, утверждаю: такое количество ляпов просто кошмарно. Капельницу с физраствором в 1917г.?!!! Я вас умоляю!!!!! Почитали бы хоть оригинал булгаковский, там все есть... Морфин при аллергии... Без комментариев. И чего это сестра ему морфий в ягодицу-то загоняет, когда оно подкожно ставится?! А как она порошок вешает - умора - просто сыпет в чашку, даже не уравновесив весы, как будто актриса их первый раз видит... А операции-то как поставлены - реализьма - нуль целых, херц десятых.
Короче - не умеешь петь - НЕ ПЕЙ!!!!!!!!!!!!
Режиссёру наверное более никак не снять, нет таланта изобразительного. Выкинь все эти сцены - и фильм сразу станет плоским. Так что фильм на потребу публике.
Сцены деревни офигенны!
А вообще просто не рекомендую смотреть фильмы по любимым книгам, потому что экранизация ВСЕДА искажает первоисточник. Другое дело, что иногда, как в случае с Балабановым, это искажение может быть для кого-то оправданным.
Про \"Морфий\" - проглядела перед фильмом, что снял его Балабанов. Узнала его манеру с первых же минут - показывать противные и омерзительные вещи его конек! Показывать крупным планом трупы или блевотину - видимо вызывает у него наслаждение! Удивилась, что женские роды он не стал снимать крупно- постеснялся что ли? :P В целом сюжет неплохой (Булгаковский отчасти?!), но режиссер в своём репертуаре! Кстати, \"Собачье сердце\" смотрела уже не один раз с удовольствием!!!
Фильм понравился.
думаю, это фильм на любителя. многим людям фильм не понравится. остальные будут в восторге.
на сеанс, на который я попала, собрался довольно циничный народ и звук не был как следует отлажен. поэтому раз 10 зал смеялся над очередной шуткой какого-нибудь зрителя. в этом были свои плюсы - обстановка разряжалась. потому как фильм получился достаточно тяжёлый. это не недостаток, а, скорее, особенность.
Зацикливание режиссера на жутких, страшных сценах,порой отворачиваешься чтобы не смотреть сцены, уход от автора, от героя, смакование тошнотворных подробностей. После просмотра этого фильма Хочется Кричать-
Читайте классику, а не смотрите жалкие попытки её экранизации!!!
Во-первых,он очень затянут, нет динамичности развития сюжета,смотреть просто напросто не очень интересно...
Во-вторых, плохая игра актеров, да и сама постановка фильма оставляет желать лучшего...
На моих глазах люди,сидевшие в зале, вставали и покидали кинотеатр ( не только из-за отвратительных и тошнотворных сцен).
Но есть и положительный момент, детали и мелкиеЮ, на первый взгляд не заметные вещи, настолько хорошо отработаны, но просто глаз радуется...
А в остальном, если бы можно было поставить оценку -2 или -3, то поставила бы незадумываясь....
Балабанов - человек с депрессивно-чернушным мировоззрением.Который снимает такие же фильмы.
Можно поумничать -нуар,атмосферность,ах он такой утонченный,вы не понимаете..! и т.п.Но если честно взглянуть, - да нет там ничего светлого.Один кал.И это говно я есть не собираюсь.
Фильм претендует на отображение атмосферы того времени, кругом просто мрак и ужас и нет просвета, все люди гнилые: предшественник главного героя Леопольд слинял из России, всё побросав, хотя в книге это светлый и величественный образ, врачи и фельдшеры сами мало чем отличаются от необразованных крестьян, Панин прямо пресмыкается перед главным героем и все время смотрит на него с каким-то осуждением, между персоналом подозрительные недомолвки (а теперь смотрим описания этих людей у Булгакова: атмосфера взаимного уважения и искренней теплоты), ну и самое главное - как вообще связана зависимость морфиниста и революция в стране? Если нам хотели показать душевные метания наркомана, то не удалось, герой в принципе лишен всяких чувств - режет ноги, сношается с пациентками, вынужденно и без особой охоты выполняет обязанности врача - и всё это на автомате, потому что так надо. а если нам хотели показать реалии того времени и ужасы революции, то к чему тут этот случайно ставший морфинистом врач? ладно если бы он стал наркоманом именно под влиянием окружающей действительности, так нет же, это никак не связано. ну и да - сцена минета меня поразила, возмутила и рассмешила своей нелепостью и неуместностью гораздо сильнее отрезанных ног и блюющего врача - это-то как раз нормально и к месту.
А "Груз 200" меня особо не смутил, прото не понимаю, зачем всю эту чернуху и гниль на Булгакова переносить?
Человека потеряли давно и найти его пытаются явно не там. Ориентация я бы сказал на гламурную интеллигенцию.
Вот убрать из фильма то что он \"по Булгакову\" - что останется?...
Первый-это волки которые отсталибы после первого выстрела и вообще бегут по собачьи.
Второй-это печка-главный элемент любого дома, а по нему люпят нещадно, используя как средство связи и сигнализации.
Третий-это вопли которыми зовут доктора и встречают прибытие едвали не каждого нового пациента, которые ассоциируються с воплями Захаровой \"Е-е-еду-ут!!!\" из фильма \"Формула любви\", а в целом фильм потрясающий, но скорее всего очередная, неполная версия.
А за политически грамотное отображение краснопёрых ублюдков ещё +100
Фильм снят добротно, но это не Булгаков. Это бред Балабанова с пошлой медсестрой Дапкунайте
P.S. Утром после просмотра первое, что сделала - скачала ноты \"Кокаинетки\" и побежала наигрывать....
фильм про наркотики не может быть мягким и пушистым как например нирвана.единственное что не очень - видеоряд и монотонность.Когда врач приехал на дурдом стало очень интересно. Актёры хорошо сыграли.
И порно на нуль - и бабы чересчур страшные, и как-то стыдливо-советски. Иж давал бы - так давал!)))))))))
В \"Морфии\" все сцены операций и больничной жизни на уровне, также атмосфера неплохо восстановлена, а остальное не впечатлило.
Отзывы критиков (анонсы рецензий)
Чисто технически фильм сделан блестяще — пожалуй, лучше всех прежних балабановских фильмов: с прекрасно выстроенным пространством, с неожиданным нежным вниманием к деталям вроде уличных фонарей, гнущихся, как одуванчики, когда камера смотрит на них сквозь толстое оконное стекло. Картина разрабатывает в принципе те же темы, что и прошлогодний «Груз 200»: реальность как наваждение больного, мир как продолжение чьей-то частной патологии. Но если сделанный в сто раз проще и грубее «Груз» даже не слишком заинтересованному зрителю устраивал американские горки, то умно сконструированный, хорошо сыгранный, замечательно отретушированный на компьютере «Морфий» — как прямая на кардиограмме мертвеца, бесконечно растянутая во времени точка.
В «Морфии» рассказчик — не за кадром. Это он ясно видит глухой полустанок под Угличем с огромным чемоданом, тележную езду по «средней полосе», красоты русской зимы и старорусского быта, включая унитазы. Он чует красоту порока и романса, женской бани и волчьей погони. Рассказчик отнюдь не «закрылся насмерть». Ему любопытно разглядывать жизнь до мельчайших подробностей, то с ностальгическим, то с тяжелым ощущением. А то, что два раза за два часа с нами делают невыносимое, ни в какие ворота не лезущее — о чем, впрочем, все в курсе, подстраховались (ампутация и трахеотомия, ну, для мальчиков еще — роды) — так это значит только, что он рассказывает «по-взрослому», не врет про кисельные реки и молочные берега
Проще всего назвать это распадом — тела, личности, отношений, социальных связей, страны. История не заслуживает обсуждения, потому что движется как тупой автомат и Углич 17-го мало чем, в сущности, отличается от Питера 90-х. Внимательного вглядывания заслуживают только лица, взгляды, жесты в которых словно невольно проступает повод для надежды, что механическое скотство человека такой же морок, как волки в ночи, что в мясной избушке таки помирает душа, странница нежная. Это равнодушие к сюжету, конечно, сбивает с толку — словно тебя отвели в лес и бросили. Бредешь, бредешь, деревья все одинаковые и только птицы над тобой хохочут. А потом за деревьями проступает лес как из сказки. Сказки, еще не прирученной изложением в солидном издательстве, а такой, какой бывают настоящие сказки — лютой.
«Морфий» при всем своем напускном медицинском хорроре вызывает чувств не больше, чем чужой фотоальбом. Именно так он по большему счету и сконструирован. Это кино в его зачаточном состоянии, на пороге рождения из фотографии: от прибытия поезда в начале до занюханного кинозальчика с какой-то комической дребеденью в финале. Зритель фильма, как и главный его герой, оказывается в положении морфиниста-постороннего. Без чувств.